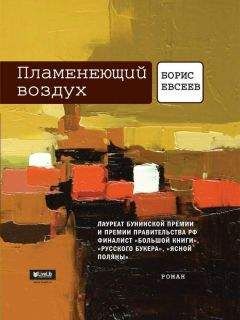Ознакомительная версия.
На улице Леля остановилась, задрала вверх милое, но, как уже говорилось, слегка несоразмерное личико (одна щека больше другой и подбородок скошен на сторону) и не к месту сказала:
— Наш город когда-то хотели переименовать в Луначарск. Но вовремя передумали. Ну ты же видишь! Даже луны приличной здесь нет!
Она еще раз глянула в опустевшее небо и как бы между прочим спросила:
— Ну что, старичок: к тебе или ко мне?
Я опешил. Лишь минуту спустя стал бормотать:
— Я в новой гостинице еще не оформился… Селимчик просто позвонил, и вещи мои из старой гостиницы туда перевезли. Так у администратора, наверное, и стоят. Надо распаковаться, то, се…
— Да я не в том смысле! Что ты, прохвост, так затрепыхался? Тебе теперь по должности положено кое-что из моих записок прочесть. Уяснил? Оказывается, вы, старики, — еще большие прохвосты, чем молодые…
— Я не старик.
— Ну хватит тут острить. Сорок с хвостиком — пенсионный возраст. По себе знаю… Ладно, не будем ссориться. Пошли в гостиницу, расскажу тебе про Майкельсона и Морли. Наш Трифон неучей не любит. Хотя он и сам, если честно сказать, порядочный неуч! Так я тебя в последний раз спрашиваю: будешь сказочку на ночь слушать или возьмешь «Справку» до утра в постельку? Она как раз для липовых сотрудников и других прохвостов написана…
— Давай «Справку» и вали домой спать! — осерчал я уже по-настоящему.
— А нету у меня дома. Я тут, как и все мы — и Трифон, и Коля, и Женчик-птенчик, — просто квартирку снимаю. Из-за науки страдаю. Понял?.. Одна Ниточка у нас местная. Ну еще бухгалтер наш… Сухо-Дроссель. С екатерининских времен тут эти Дроссели ошиваются. И дросселируют, и дросселируют, и дрос-с…
Я плотно прикрыл ладошкой Лелин рот, и мы некоторое время постояли в молчании.
Эфирный ветер — вечный двигатель?
Что такое сила эфирного ветра, я понял по-настоящему только две недели спустя. А тогда, после прочтения Лелиной «Справки», эфирный ветер представился мне чудесным мировым прорывом, а в будущем — так даже панацеей от многих общественных и личных бед.
«Прорыв» этот по скверной привычке, приобретенной за время работы у Рогволденка, я вмиг превратил в мужиковатого, с лысостриженой, усеянной пигментными пятнами головой, с мышцами канатными и зубами каменными грека Апейрона (от имени которого, как утверждала моя новая знакомая, слово «эфир» и произошло).
А Панацеей, конечно, стала сама красавица Леля.
Апейрон и Панацея немедленно сошлись, потерлись друг о друга носами и поцеловались. Но, вместо того чтобы познакомиться тесней и глубже, стали вдруг прыгать и кривляться, как те пьяные актеры или, скорей, как оппозиционеры на сколоченных наспех подмостках. Протанцевав напоследок какой-то греческий социально-разнузданный танец, Апейрон и Панацея шустро — с глаз долой, из сердца вон — скрылись.
Правда, произошло это ближе к утру. А вечером, еще только начиная вчитываться в Лелину «Справку», я всю эту древнегреческую бодягу даже представить себе не мог.
Зато история соблазнов и заблуждений века девятнадцатого, века двадцатого и даже века двадцать первого, история, украшенная именами Майкельсона и Морли, Миллера и Иллингворта, Пикара и Седархольма, Таунса и Галаева, а также других зарубежных и отечественных ловцов эфирного ветра, — предстала передо мной во всем своем скандальном великолепии.
И хотя некоторые моменты ловли в «Справке» были резко осмеяны и даже слегка оплеваны — я Лелю зауважал сильней.
Приятно было и то, что самым крутым для Лели по-прежнему оставался старик Эйнштейн. Мне в этом имени тоже чуялось нечто незыблемое: шишку на ровном месте отнюдь не напоминающее, низкопоклонством не отдающее!
Кое-какие Лелины утверждения сразу захотелось оспорить. Однако, не имея большого лабораторно-физического опыта, я решил подходить к написанному не то чтобы с недоверием, а просто с хорошей долей историко-философского скепсиса. Явные несообразности в тексте сразу брал на карандаш, чтобы назавтра Лелю ими как следует кольнуть.
К примеру, в самом начале «Справки» Леля, еще ничего толком не объяснив, делала ультимативный вывод: «Несмотря на бешеные псевдонаучные усилия, эфирный ветер за все время его изучения так и не был обнаружен. Хотя некоторое подобие ветра зафиксировано и было».
Подобие ветра? (Тут я сильней зауважал самого себя.) Как такое понимать? Никаких подобий ветра нет и быть не может. Или ветер — или его отсутствие. А в «Справке» — подобие химерическое. Что это? Тень ветра? Отзвук его?
Здесь я случайно скосил глаза вниз и прочел сноску. Сноска была напечатана мелко, и поэтому сразу я ее не заметил.
«Именно поветрие может считаться подобием, а в некоторых случаях и особым видом эфирного ветра, искаженного земными влияниями. В первую очередь это относится к неожиданным моровым поветриям и мировым психозам, как то: чума в Европе XIV века, революционные завихрения в России, массовые японо-полпотовские сумасшествия, выброс китов на берег, поголовный уход слонов на слоновьи кладбища и т. п.»
А из основного текста «Справки», кое-как продравшись сквозь Лелин сарказм, я узнал вот что.
«Еще Джеймс Клерк Максвелл в Британской энциклопедии, а именно в 9-м ее издании, вышедшем в 1877 году, сообщил о том, что в своем движении вокруг Солнца Земля проходит сквозь неподвижный эфир. И поэтому на поверхности нашей планеты должен наблюдаться эфирный ветер».
Ниже Лелей и снова очень мелко было приписано: «И хотя такого ветра никто никогда не наб…».
Конца у фразы не было. Как будто директор Коля вырос нежданно за плечами пишущей и пару-тройку раз ласково, но и чувствительно стукнул деревянной указкой по красноватым пальчикам, не имевшим, кстати, никаких признаков удлинения ногтей. Стукнул, словно бы предупреждая: «Следи за базаром, милая! Ты, Леля, в науке, не в супермаркете!».
Дальше в Лелиной «Справке» сообщалось: «Некоторые из теоретиков еще в XIX веке подсчитали — скорость эфирного ветра в пространстве должна составлять 30,3 километра в секунду.
(Ничего себе, — раскрыл я рот от удивления.)
Однако профессор Майкельсон, первым начавший измерять дуновения эфира — в Потсдаме, в лаборатории Гельмгольца, — с третьей попытки, в 1887 году, получил скорость ветра, равнявшуюся трем километрам в секунду, что сразу снизило интерес к проблеме.
Замерял Майкельсон эфирный ветер с помощью громоздкого и неуклюжего прибора, интерферометра. Что это был тогда за прибор? Крестообразная махина два на два метра, обшитая досками из белой сосны, и только с одной парой зеркал внутри. Вот и вся наука!
После европейских опытов Майкельсон вернулся к себе в Америку и там опять взялся за свое, как будто ему делать было больше нечего!
Помогал Майкельсону в этих сомнительных экспериментах, без которых наука вполне могла обойтись, профессор Эдвард Уильямс Морли, тоже американец. Кстати, до подключения Морли у Майкельсона вообще ни черта не выходило!
Американцы снова замерили и опять получили: три километра в секунду».
«Но что такое для космоса 3 километра в секунду? Это же не ветер — ветерок!» — опять не удержалась от комментариев Леля.
Приписки ее раздражали все сильней. Мне самому хотелось комментировать! Самому выплескивать на экран или на бумагу сарказмы и сардонизмы! А она… Раскудахталась тут квочкой!
Под влиянием Лели я сбился на личности и сперва намалевал на полях «Справки» профессора Майкельсона, с громадным носом-гачком и руками-вилами. В пару Майкельсону добавил я Эдварда Уильямса Морли.
Портрета Морли в тот вечер взять мне было негде. Интернет в гостинице не работал. Но исходя из русского звучания американской фамилии, насадил я на тощую шейку приличное мурло, а чуть поразмыслив, воткнул мурлончику в щеки редкие кошачьи усы.
Максвеллу вместо головы навесил я маятник. Получилось здорово! Правда было трудно понять, кто это. Пришлось сбоку нацарапать по-английски: Maxwell.
Натешившись вдоволь американцами, я неожиданно для себя на обороте «справочных» листов стал делать эскизы, связанные с новой моей знакомой.
Рисунки про Лелю вышли в виде комиксов.
Быстро на двух оборотках изобразил я, как эта молодая особа распахивает гостиничное окно, вскакивает на подоконник и, косо раззявив рот, выкрикивает: «Где этот паршивый эфирный ветер? Куда он, блин, делся?».
На двух других оборотках изобразил я окружающую среду. Небо под моей рукой от карандашной штриховки стало быстро темнеть, а потом и совсем почернело.
Еще картинка. Тяжкий порыв ветра переворачивает парусную яхту у берега. Летят кривые дрючки и куски жести. Летит, заполонив пол-листа, волжская ажурно-пенная волна.
Картинка предпоследняя, в трех кадрах. Леля, негодуя, срывает с себя в гостиничном номере одежду и швыряет ее — предмет за предметом — в открытое окно.
Ознакомительная версия.