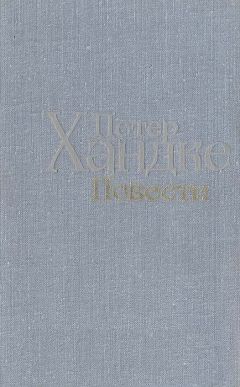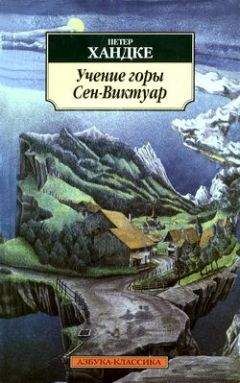К тому же вечно одни и те же предметы, глядящие на неё из одних и тех же углов! Она попыталась всё бросить, стать неряхой, но привычка ежедневно работать обрела уже независимость. Она охотно незаметно умерла бы, но боялась смерти. И была слишком любопытной. «Мне всегда приходилось быть сильной, а больше всего хотелось быть слабой».
У неё не было ни увлечений, ни своего конька, она ничего не собирала и не меняла, не разгадывала больше кроссвордов. Давно уже не наклеивала фотографии, а просто убирала их куда-нибудь подальше.
В общественной жизни она никогда не принимала участия, ходила только раз в год сдавать кровь и носила на пальто донорский значок. Однажды о ней как о стотысячном доноре передавали по радио и пригласили её на студию, где она получила подарочный набор.
Иногда она играла на новом автоматическом кегельбане. Она хихикала, не разжимая губ, когда сбивала разом все кегли и раздавался звонок.
Однажды в концерте по заявкам родственники из Восточного Берлина передали привет их семье вместе с «Аллилуей» из оратории Генделя.
Она боялась зимы, когда все собирались в одной комнате. Никто не приходил к ней в гости; если она слышала какой-то шум, то, подняв голову, видела всё того же мужа: «А, это ты».
У неё начались сильные головные боли. От таблеток её рвало, и рюмочки скоро перестали помогать. Голову ломило так, что она едва могла к ней прикоснуться. Раз в неделю врач делал ей укол, снимавший на какое-то время боль. Потом и уколы перестали помогать. Врач сказал, что ей нужно держать голову в тепле. Поэтому она теперь всегда ходила в платке. Несмотря на снотворное, она почти всегда просыпалась после полуночи и клала подголовник себе на лицо. О часах, проведённых без сна до рассвета, она весь день вспоминала с содроганием. От боли ей мерещились призраки.
Муж между тем попал в лечебницу с туберкулёзом лёгких; он писал ей нежные письма, прося взять его домой. Она отвечала ему ласково.
Врач не мог понять, что с ней; обычные женские недомогания? Климактерический возраст?
От слабости она, пытаясь взять ту или иную вещь, промахивалась, руки висели у неё как плети. Помыв посуду после обеда, она ложилась на диван в кухне, в спальне ведь было холодно. Иногда голова болела так, что она никого не узнавала. Она ничем больше не интересовалась. В голове у неё гудело, и поэтому говорить с ней нужно было громко. Она не справлялась теперь со своим телом, на всё натыкалась, падала с лестницы. Смеяться ей было больно, она лишь изредка морщилась. Врач считал, что, вероятно, защемило нерв. Говорила она тихим голосом, страдала так, что не могла даже стонать. Она склоняла голову набок, на плечо, но боль преследовала её.
«Я больше не человек».
Минувшим летом, когда я был у матери, я застал её однажды в постели с такой безнадёжностью на лице, что не решился подойти к ней. Передо мной, как в зоопарке, лежало словно обретшее плоть звероподобное одиночество. Мучительно было видеть, как бесстыдно вывернулась она наизнанку: всё в ней искорёжилось, смялось, разверзлось, воспалилось, будто спутанный клубок кишок. Она посмотрела на меня точно откуда-то издалека, но так, будто я был её РАСТЕРЗАННЫМ СЕРДЦЕМ — каким Карл Росман был для всеми униженного истопника в романе Кафки. Испуганный и сердитый, я тотчас вышел из комнаты.
Только с этих пор я по-настоящему обратил внимание на мать. До этого я часто забывал её. Разве что изредка у меня больно сжималось сердце при мысли об идиотизме её жизни. Теперь же она вошла в мою жизнь как некая реальность, обрела плоть и кровь, и её состояние было столь убедительно понятным, что я в иные минуты полностью делил с ней её беду.
Да и люди в округе стали смотреть на неё другими глазами: словно она была предназначена представить им их собственную жизнь. Они, правда, спрашивали, «почему», да «отчего», но только для видимости; они и так прекрасно её понимали.
Ею овладела апатия, она ничего не помнила, не узнавала даже самые привычные домашние вещи. Младший сын, вернувшись из школы, всё чаще находил на столе записку, что она пошла погулять, а он чтобы сам сделал себе бутерброды или пообедал у соседки. Эти записки на листках, вырванных из блокнота с расходами, скапливались в ящике стола.
Она не в силах была больше выполнять обязанности хозяйки дома. Она уже просыпалась больная. Всё у неё валилось из рук, и сама она готова была свалиться тут же.
Двери вырастали на её пути, с каменных оград, когда она проходила мимо, казалось, сыпалась плесень.
В передачах по телевизору, которые она смотрела, она больше ничего не понимала. А чтобы не заснуть, ей приходилось делать какие-то движения руками.
На прогулках ей иногда удавалось забыться. Она сидела на опушке леса, как можно дальше от домов, или на берегу ручья, ниже брошенной лесопильни. Вид полей и воды не успокаивал, правда, боль, но хоть заглушал её на время. В неразберихе открывшихся картин и чувств, когда каждая картина тотчас обращалась в муку, заставляя мать поскорее переводить взгляд куда-то, где следующая картина так же мучила её, случались мёртвые точки, когда чёртова карусель окружающего мира давала ей короткую передышку. В эти минуты она ощущала лишь усталость и от всей этой круговерти приходила в себя, рассеянно глядя в воду.
Но внезапно всё в ней вновь вздыбливалось против окружающего мира, какое-то время она ещё панически барахталась, сопротивляясь, но не могла удержаться в состоянии покоя, из которого её словно выкидывала какая-то сила. Тогда она вставала и шла дальше.
Она рассказывала мне, что даже на ходу её всё ещё душил ужас; поэтому она шла очень медленно.
Но она шла и шла, пока от слабости опять не вынуждена была сесть, но очень скоро поднималась и опять шла.
Так она часто попусту тратила время, не замечая, что уже темнело. Она страдала куриной слепотой и с трудом находила дорогу к дому. У дома она останавливалась и, не решаясь войти, присаживалась на скамейку.
А когда наконец входила, то дверь отворялась медленно-медленно, и мать, широко открыв глаза, входила, точно призрак.
Но и днём она без толку бродила по дому, путая двери и стороны света. Часто она сама не могла понять, как попала в то или иное место и сколько прошло времени. Она вообще потеряла чувство времени и пространства.
Она никого не хотела видеть, разве что в гостинице подсаживалась к туристам, выскочившим из автобусов, которые слишком спешили, чтобы разглядывать её. Она не в силах была больше притворяться; она полностью выдохлась. Взглянув на неё, каждый догадывался, что с ней.
Она боялась лишиться рассудка. Поторопилась, пока ещё не было поздно, написать два-три прощальных письма.
Письма были такими ошеломляющими, словно она пыталась запечатлеть на бумаге частицу собственного сердца. Писать теперь не значило для неё больше заниматься какой-то чуждой работой, как обычно для людей её образа жизни, для неё это было точно дыхание, независимый от её воли процесс. Правда, с ней почти нельзя было теперь ни о чём говорить, каждое слово напоминало ей о чём-то ужасном, и она тотчас терялась. «Я не могу говорить. Не мучай же меня». Она отворачивалась, отворачивалась ещё раз, и ещё резче, пока не оказывалась спиной к говорившему. Тогда она закрывала глаза, и тихие бесполезные слёзы катились по её лицу.
Она поехала в город к невропатологу. С ним ей было легко разговаривать, он был врач, и это внушало ей доверие. Она сама удивилась, как много ему рассказала. А рассказывая, начала всё по-настоящему вспоминать. Её успокоило, что врач, слушая её, согласно кивал головой, отдельные признаки сразу распознал как симптомы и, дав им наименовании «нервное расстройство», привёл к системе. Он понял, чем она больна, мог объяснить её припадки. Она была не единственной пациенткой, в приёмной ждали ещё два-три человека.
В следующий раз ей уже было интересно наблюдать за этими людьми. Врач посоветовал ей как можно больше гулять на свежем воздухе. Прописал ей лекарство, облегчившее немного головную боль. И путешествие переключило бы её мысли. За каждый визит она платила врачу наличными, больничная касса, членом которой она состояла, не предусматривала подобные расходы. Её огорчало, что она тратит на себя деньги.
Иной раз она отчаянно искала какое-нибудь слово, обозначающее тот или иной предмет. Как правило, она его знала, просто ей хотелось, чтобы окружающие приняли в ней участие. Она тосковала по той недолгой поре, когда и правда никого не узнавала и ничего не замечала вокруг себя.
Она кокетничала тем, что была больна, разыгрывала больную. Делала вид, что в голове у неё всё путается, чтобы защититься от наступившей наконец ясности мыслей, ибо при ясной голове она считала, что представляет собой некое единичное явление, и переставала утешаться мыслью, что занимает лишь вполне определённое место в ряду себе подобных. Преувеличивая забывчивость и рассеянность, она хотела, чтобы её, когда она всё-таки всё вспоминала или понимала всё происходящее, ободряли: «Ну вот, уже лучше! Тебе уже много лучше!» — словно весь ужас состоял только в том, что её точила мысль, будто она потеряла память и не способна принимать участие в разговоре.