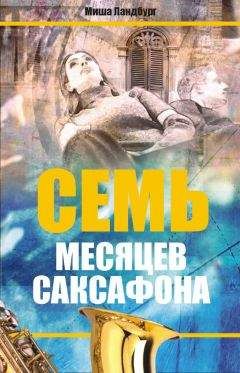Ознакомительная версия.
«Родиться бы заново, – думаю я. – И мне, и Зине родиться бы в один день, и сразу же, ещё будучи в пелёнках, друг в друга влюбиться, а через годы помнить лишь о нашем, о своём… Ни о чём другом, ни о ком другом…»
***
Снимаю ногу с газа – «фиат», сдерживая бег, съезжает к воротам лечебницы.
«Люди – карандаши, – думаю я. – И жизнь, так или иначе, неустанно оттачивает нас, добиваясь того, чтобы мы острее видели, острее чувствовали, острее понимали; в конце концов, мы стачиваемся настолько, что падаем на пол никому не нужными, стёртыми огрызками… Плевать!.. Я ещё не огрызок; я ещё пока карандаш. Время плевать! Рисовать и плевать!..»
– Сейчас выясним, – человечек, спрыгнув со стула, водит пальчиком по цифрам на диске телефона. – Вот как? Ладно.
Человечек вновь взбирается на стул и, сложив на груди ручки, вскидывает вверх подбородок.
«Король Марокко!» – думаю я о человечке и осторожно спрашиваю:
– Мама во дворе?
– Прогуливается! – щёлкнув языком, король весело мигает глазом.
– Иди, – говорит Зина. – Я здесь…
***
На пороге проходной длинная изогнутая тень.
– Вы? – говорю я Колдуну?
– Я!
Вглядываюсь в серые глаза, серые волосы, бескровные губы.
– Навещали маму?
Губы вытягиваются в едва заметную улыбку:
– Твоя мама спасена!
Облегчённо вздыхаю и говорю:
– Я перед мамой виноват.
Глаза Колдуна вдруг теряют свой цвет, на губах замирает отвратительная гримаса.
– В этом мире виноватых нет, – говорит Колдун. – Потому что нет и правых.
Молча прохожу мимо и слышу, как Колдун шепчет: «Спасена!»
Во дворе под деревом сидит Рудерман, рядом стоит человек с лицом пятилетнего ребёнка. Прежде его не встречал. «Замечательное лицо!» – решаю я и вдруг замечаю маму. Она сидит, откинувшись на спинку выгоревшей от солнца скамейки.
– Ну, вот, – говорю я маме и развертываю свёрток с туфлями. – Вот, взгляни, это же твои туфли.
Но мама продолжает сидеть с закрытыми глазами.
– Мама, теперь-то ты не спишь! – обижаюсь я и заглядываю в белое лицо. – Мама, надень-ка туфли, и мы сбежим!..
Мама послушно, словно большая кукла, валится на меня всем туловищем.
– Ты что это! – кричу я, потому что мама, выскользнув из моих рук и ударившись глазом о край скамейки, остаётся недвижно лежать у моих ног.
– Эй, – говорю я. – Эй!
Наклонившись, оправляю на маме задравшийся подол халата и ложусь на землю рядом. Мне вдруг кажется, что над нами проплывает скамейка, на которой только что сидела мама. Пытаюсь открыть маме глаза. Они не открываются. Только рот. Тёмный и пустой, он открыт широко, будто собрался прокричать о чём-то. Кажется, над нами стоит человек, у которого лицо пятилетнего ребёнка.
– Мама, – спрашиваю я, – ты зачем это?.. Я хотел поговорить…
Кажется, человек, который стоял над нами, ушёл. Губами прижимаюсь к маминому уху. Оно в колючих песчинках. Говорю:
– Выходит, ты не ухватилась… Выходит – я напрасно, и Шопен – напрасно… Мама, у меня будет выставка… Моя выставка… Мы бы с тобой…
Смахиваю с маминого уха песчинки и, глотнув воздух, кричу:
– Мамочка, зачем ты это?.. Не молчи-и-и-и!.. Не молчи-и-и-и!.. Ты что натворила?.. Ведь ты сама себя вые… М-а-а-а-ма! Не-е-е-т!
Ощущаю, как разрывается моё горло, мои ноздри, мои уши; бегу по аллее больничного двора, а рядом прыгают скамейки, кусты, сумасшедшие люди. Я бегу, а они прыгают… А потом вбегаю в проходную и прячу лицо в тонкие, низко опущенные плечи Зины.
Пробыв месяц в трауре, я снял бороду – вначале ножницами, потом лезвием. Вместе со струёй воды борода уходила вниз по трубам. «Вот так бы уходило горе или болезни», – думал я.
За окном кусок неба и улица Галиль; каждое утро за окном кусок неба и улица Галиль; на крышах всё те же антенны и на окнах те же занавески. Мир вертится, но не переворачивается.
По улице ведут коня. Коней в мире мало. И ослов мало. Дураков много, а ослов мало. Говорят, что кони умные. И добрые. Говорят, что быть одновременно и умным, и добрым могут только кони. Когда разбогатею, непременно куплю себе коня. Будем жить вчетвером: Мим, «фиат», конь и я. Отправимся в горы под Цфат – там задумчивые деревья и свежий лиловый воздух. Куплю себе коня.
***
«Если не я себе, то кто мне?»
***
Отхожу от окна. На треугольном столике шесть листов бумаги. Сверху набросок мужчины с лицом пятилетнего ребёнка. Кладу лист на покрывало кровати. Разглядываю. Потом кладу наброски лиц бухарца в тюбетейке и женщины на скамейке. Глаза у женщины закрыты, забиты, заколочены. Разглядываю лица моих приятелей из лечебницы и прихожу к выводу, что у них самые выразительные лица в мире. Моим приятелям из Беер-Якова Мессия ни к чему. А мне?
***
«Если не я себе, то кто мне?»
***
В тот день, когда Зина сказала: «Твоя мама проснулась!» – я был готов веровать, но в тот день я проклинал…
***
Весь месяц я сидел в дверях проходной и рисовал лица, а мой приятель Рудерман срывал под деревом травинки, считая, что срывает крылышки у цветных бабочек.
Появляясь в проходной, Зина ставила передо мной увёрнутую в полотенце кастрюлю с супом и молча разглядывала мою бороду.
– Будет лучше, если я на время уеду… – сказала она.
– Да, будет лучше… – согласился я.
Я рисовал. Я трудился, как одержимый. А когда приходила ночь, я ложился в кровать одетым, потому что стоило снять с себя одежду, как тут же казалось, что меня опускают в яму, и холодный песок с краёв осыпается…
Лежа с открытыми глазами, я думал об огромном круглом торте с сотней весело мигающих свечей. Я глядел на свечи, затаив дыхание…
***
«Если не я… то кто?..»
***
К утру гаснут свечи и тает торт, за окном разливается тихий свет, на книжной полке задумчивый Мим, а на треугольном столике белеют листы с лицами моих приятелей-сумасшедших. Опускаясь на руки, отжимаюсь от пола. «На треугольном столике лица-тайны… – думаю я. – В каждом человеке, кроме жидкости, костей и немного мозгов – есть ещё и своя Тайна…
Г-н Рудерман, в чём твоя тайна? Чтобы удался портрет, мне необходимо нащупать твоё Что-то…
Г-н из Бухары, а твоя тайна в чём?»
С книжной полки на меня глядят глаза Мима.
– Трудись, трудись неустанно, – молчат глаза Мима.
– Да, – говорю я.
– Ищи Тайну, и тогда станешь художником!
– …………………… – молчу я.
***
«Если не я… то кто?..»
***
Может, Тайна человека – это то, что вбирают в себя от учителей или от прочитанных книг, а может, от пережитых дней и ночей, а может, от дьявола, а может, от бога? Мама, кто учителя твои?
– Думай, думай ещё, – молчит Мим.
Утро. Снова утро. И снова, и снова, и снова…
***
Вглядываюсь в лица на треугольном столике так же пристально, как это делал лейтенант Рон, стоя перед экипажами танков. «Всё ясно?» – говорил, ничего не объясняя, лейтенант. «Да, командир!» – отвечали мы, потому что были молоды и потому что воевали; когда ты молод и когда приходится воевать, то всё ясно. В огонь так в огонь!..
***
«Марш в проходную лечебницы»! – командую себе.
Рисовать, рисовать, рисовать, рисовать, рисовать, рисовать.
Лечебницы для душевнобольных будут вечно, то есть, до тех пор, пока будут люди.
Рисовать, рисовать, рисовать, рисовать, рисовать, рисовать Лица. Всё остальное – не мне…
***
«Если не я себе, то кто мне?»
***
Мама, кто учителя твои? А мои – кто? Они были? Они есть?
В глубокой древности хаживали по земле пророки; у них были крупные головы и длинные седые бороды, и говорили они глубоким, проникновенным голосом, а разговаривая, выставляли перед собой очень длинный указательный палец. Вот у аптекаря Ицикзона, например, указательный палец короткий, а у многих членов его партии указательные пальцы совсем коротенькие, а у тех, которые стоят у власти сейчас, указательные пальцы едва видны; что же касается бород, то сегодня их отращивают лишь школьники средних классов, ну, а что до голосов – то о них и сказать нечего, ибо современные пророки говорят немыслимо длинно, да к тому же в микрофоны с усилителями, отчего голоса звучат искажённо и неубедительно. Правда, головы у современных пророков очень даже крупные. Почти такие, как у быков или гиппопотамов. «Помните о ваших славных корнях, не забывайте, откуда пришли вы!» – орут микрофоны. Как же, разумеется, помним. Сегодня даже первоклассник знает, откуда мы пришли, вот куда идём, ни один профессор толком не ведает.
***
Собираю со столика листы, складываю их в стопку. Смотрю на лица. Смотрю долго. Устаю смотреть. Устаю думать.
На газовой плите в зелёной кастрюле мой завтрак: сморщенные сосиски – их накануне подарила г-жа Шварц. Очень мило со стороны домовладелицы дарить мне сосиски; я же в свою очередь угостил г-жу Шварц английским чаем и бисквитным пирожным из кафе «Будьте здоровы!». Г-жа Шварц сказала, что занесёт ещё что-нибудь съестное, но я сказал, что надобности в этом нет и что я ценю добрую ко мне перемену, и тогда г-жа Шварц молча выпила чай, раскраснелась и вдруг заплакала. Я погладил её плечо, и она, не сказав ни слова, ушла.
Ознакомительная версия.