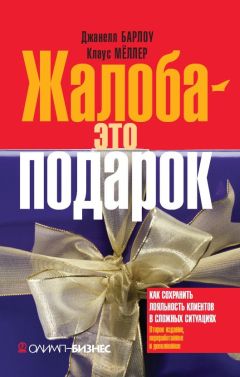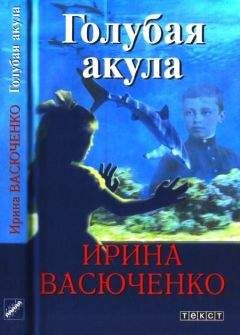Немыслимо. Нет. Надо по мере возможности обеспечить щадящую развязку. Чтобы сам понял, что ошибся, я ему не пара. На четыре года старше. Неумеха. Растрепа. Вечно сонная, чудаковатая тетка… Я надеялась, что сумею помочь ему увидеть меня такой, благо подобная трактовка моего образа вполне возможна.
Скольких усилий потребовало бы вразумление Севы, удалось ли бы вежливо разжать его мертвую хватку, не знаю. Но пришло избавление. Вероятно, оно могло бы явиться и раньше, будь я повнимательнее к личности смиренного поклонника.
— Я к вам так ходить привык, прям тоска, если не смогу. А вчера было нельзя, мой черед пришел на проходной дежурить, в патруле опоздавших вылавливать.
— У вас там все по очереди обязаны друг друга вылавливать? Ну и порядки!
— Почему все? Только желающие.
— Так вы сами захотели? Зачем?
В сладких молящих глазках проступила незнакомая жесткость. Кончик языка, высунувшись, бойко облизнул и без того мокрые губы:
— Это власть, Сашенька. Приятно. Совсем по-особому себя чувствуешь. Мы ж не ко всем одинаково, тут есть подход. Кто объясняет, почему опоздал, прощенья просит, тех мы пропускаем. А уж кто гордится, просить не желает, ему неприятности будут. Все от меня зависит, с кем как поступить!
“Ах ты гнида!” Насилу удержавшись от этого не в меру чистосердечного восклицания, я в тот же день позвонила Катышеву:
— Просьба к тебе. Даже просьбища. Сева меня преследует. Под окнами стоит, ноет. Я объясняла, что нет, ни теперь, ни потом, а он видит в этом только повод усилить напор. Поговори с ним. Тоню не впутывай, она и так ко мне неважно относится, но ему скажи что хочешь. Что я вернулась к мужу, что у меня ревнивый любовник-бандит, что я больна дурной болезнью — все на твое усмотрение. Лишь бы отстал. А то у меня терпение лопнуло: если еще раз его увижу, скажу такое, что самой страшно.
— Да, конечно. Понимаю. Сделаю. Извини, что так вышло.
Что Катышев сдержит слово, сомневаться не приходилось. Но многолетнему приятельству конец. Прошлое отваливалось кусками, как штукатурка с обветшавшего строения. Моя победоносная юность. Мертвые, пыльные пласты.
Это была самая длинная зима в моей жизни. Острая боль, будь она в разбитом сердце или в прогнившем зубе, имеет свойство неимоверно растягивать время. С ней трудно вытерпеть минуту, час, день. А тут — месяцы. Подобно больному человеку, который мечется под одеялом, ища позы, что принесет хоть малое облегчение, или захворавшему зверю, рыщущему в чаянии целебной травки, я цеплялась за любую возможность хоть что-то изменить. Пореже бывать дома. Меньше сидеть на службе. Лучше бы вообще не оставаться на одном месте… И тут повезло — начальство предложило съездить в Обнинск на двухнедельные курсы издательских работников. Курсы ведомственные, ведомство не бедное: обещали отдельный номер в гостинице. Я простилась с домашними, напоследок потрепала Али по толстому брюшку — уже избалованный, боксеренок теперь переворачивался на спину с кокетливым самодовольством — и пустилась в дорогу, пообещав присылать открытки.
Номер мне и вправду предоставили одноместный, по моим скромным понятиям уютный: то ли с паласом, то ли с ковровым покрытием. Вот только — девятый этаж… Окно на легкой задвижке, открыть проще простого. И глубоко внизу — надежный, твердый асфальт с наледями. Я запретила себе даже приближаться к этому окну. А когда искушение уж совсем одолевало, принималась крыть себя грязными площадными словами, каких ни раньше, ни позже в моем лексиконе не водилось. Никогда бы не поверила, что в столь примитивном средстве может быть прок. Но кажется, был.
Занятия проводились в соседнем с гостиницей здании, народу со всех концов нашей необъятной понаехало много, однако посещаемость контролировали. Я приноровилась было, отметившись при входе, усаживаться в заднем ряду и дремать, с вдумчивым видом упершись лбом в ладонь, а локтем — в крышку стола. На беду, молодая редактриса из Ленинграда облюбовала меня в подруги: садилась рядом, заговаривала, хихикала — мешала. Такая добродушная, оптимистичная. Из тех, кому “все интересно”, кто не может взять в толк, как же не стремиться к знаниям. Сведения, сообщаемые лекторами, были либо всем известны, либо никому не нужны, но она прилежно внимала, вылупив глаза и вопросительно поталкивая меня в бок всякий раз, когда что-то казалось ей не совсем понятным.
Три года спустя мне, вроде бы излечившейся от старого кошмара, в ленинградской командировке, в коридоре НИИ попалась на глаза толстощекая приветливая брюнеточка, с которой, кажется, где-то… С каким диким отвращением я шарахнулась от нее! Шарахнулась прежде, чем вспомнила, кто это, прежде, чем осознала неприличие своего жеста. Она была оттуда, из бреда и мрака той зимы, и что-то во мне темное, по-звериному стремительное ощерилось в яростном испуге, пока неповоротливое сознание растерянно мигало, силясь понять, что случилось.
Ни сном ни духом не повинная в моих ассоциациях, дама, к счастью, ничего не заметила. Через пять минут мы пили кофе в буфете и болтали, как ни в чем не бывало. Она оказалась и милее, и разумнее, чем помнилась мне по Обнинску.
В тот день я усомнилась в своем полном выздоровлении.
Около часу занятия на курсах кончались, и я отправлялась бродить по городку. Серые слежавшиеся сугробы громоздились по обочинам дорог. Темное рыхлое небо провисало, навалившись на крыши девятиэтажек. На соснах, покаркивая, дремотно ворочались черные стаи. Припомнив, что надо купить обещанную родным открытку, я высмотрела киоск “Союзпечати”, подошла, глянула… Они были разложены веером: “Поздравляю!”, “С днем рожденья!”, “Да здравствует” то да се и даже — редкость — “Счастливого путешествия!” Розы, анютины глазки, райские птички, лилии, бабочки. Разноцветный игрушечный парусничек с прыгучими зверюшками на палубе, с пестрым вымпелом на мачте.
— Дайте мне, пожалуйста, вот эту… Нет, еще эту. И вон те три. Да, все три подряд.
Человеческая натура, припертая к стенке, подчас выкидывает странные коленца. Мне вдруг патологически остро захотелось ярких красок. Казалось, я загибаюсь оттого, что кругом все черно-белое. Хоть, разумеется, помню много таких же пасмурных зимних дней, когда в душе неистовствовали все цвета радуги… нет, вот этого не надо. Если ты начнешь хлюпать еще и на улице средь бела дня, я тебе, так тебя и разэтак, в здравом уме и твердой памяти сама окошко открою… “Любезные мои маменька, папенька и сестрица! Мне здесь нравится. Роскошные апартаменты на девятом этаже — достойный приют моей царственной лени. Занятия кончаются рано и трудности не представляют. Сказала бы, что и смысла не имеют, но они имеют его: я отдыхаю, как никогда. Живите праведно. Лелейте Али! Постараюсь написать еще, но если нет, не сердитесь: говорю же, обленилась непотребно”.
С тех пор мои блуждания обрели цель. Я искала киоски “Союзпечати” и скупала открытки. Все, кроме октябрьских краснознаменных и февральских красногвоздичных — если и спятила, то не настолько, чтобы и в них найти нечто целительное. Кроме первого, нашлось еще два или три киоска. Моя открыточная коллекция росла. Набралась уже пачечка толщиной с карточную колоду. Я их потом лет пятнадцать рассылала, прежде чем последние обнинские бабочки полетели — “С днем рождения!” — куда-нибудь в Ригу, Париж или Йошкар-Олу.
Домой я вернулась дня за три до срока формального развода. Февраль был на исходе, но морозы грянули опять, еще свирепее январских. При дыхании воздух свертывался в легких ледяными творожистыми комками, и я боялась свалиться прежде, чем все будет позади. Это была типичная псевдопроблема: официальным церемониям ни я, ни Виктор значения не придавали. Брак в свое время оформили только из уважения к скачковским “предкам”, год с лишним кротко сносившим наше беззаконное сожительство. Так называемые простые люди — шофер и деревенская бабуля. Хоть шофер и был бесшабашным старым гулякой, а бабуля — одной из умнейших голов своей эпохи, разврат ученого, но непутевого сына на глазах у соседей наверняка доставлял им много неприятных минут. Впрочем, я и как невестка была не подарком — шальная девка, бесприданница и бездомовница, вечно “в штанах”, на велосипеде гоняет, рожать не хочет, разве ж Витька с такой остепенится?
Мы, правда, еще и моего распределения опасались. За Можай силком загонять в те годы было уже не принято, однако в воздухе висело: могут загнать. По закону вправе. А учитывая виды, которые имела на меня влиятельная факультетская персона, опасность возрастала — черт знает, куда его поведет, обманутого в своих ожиданиях? Но уж свадьбы, само собой, не было. Я отказалась категорически, и старики не долго спорили: брачный пир сожрал бы многолетние сбережения. Причем — только их, мои-то родители ничего не сберегали, а если бы что имели, нашли бы этому более осмысленное применение. А так мы ограничились тем, что сводили в приличную кафешку наших двух свидетелей — Толю Катышева и Римму Лукину, не по возрасту монуменальную и оттого слывшую “ну просто жутко!” некрасивой переводчицу-германистку. В тот вечер вольнодумный Публий все задирал ее, обзывая “партайгеноссе” за лояльность к властям предержащим. Слушать их препирательства было нудно, да и вся эпопея с бракосочетанием раздражала — не обошлись-таки без благословения Родины-матери!