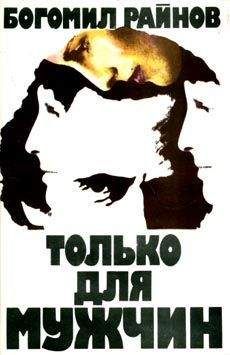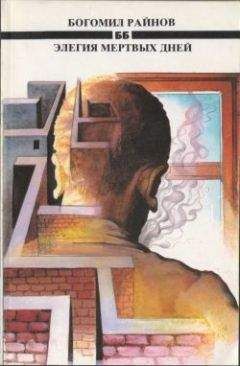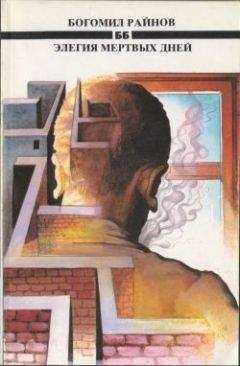– Нужно терпение, девочка. Поспешность – напрасная трата сил. В конце концов, ты же солистка, разве это мало? Сколько людей всю жизнь мечтают стать солистами.
Солистка. Такая же, как и он. Из тех, кто торчит у порога искусства. Из тех, кто терпеливо ждет, когда перед ним распахнутся двери большого искусства. И так и умирает – на пороге.
Когда-то, чтобы разжигать ее честолюбие, он находил немало примеров:
– Павлова была дочерью солдата и прачки, – говорил он. – А ты родилась в семье музыкантов. Это большая удача, которая ко многому обязывает.
Теперь у него тоже находились примеры, но уже иного рода. Ведь для того и существует великое множество примеров, чтобы выбирать из них подходящий:
– Как ты можешь говорить, что твоя жизнь кончилась! Тебе нет еще и тридцати. Уланова, насколько я помню, танцевала, когда ей было за пятьдесят. Плисецкая тоже. Наберись терпения. Поспешность – пустая трата сил. У тебя еще много времени. У тебя впереди целых двадцать лет.
Однако так же, как и она, он знал, что времени у нее нет… Что время, в сущности, истекло. Или что она его упустила. Или оно пронеслось мимо. Можно поздно кончить, но нельзя поздно начать. Поздно вообще нельзя начать.
Он поистине трогательно заботился об ее настроении. Но его заботы слишком напоминали ей заботы о больном. Отзывчивость, слишком похожая на сострадание.
* * *
Репродукцию с картины Дега он подарил ей давно, еще во времена больших надежд. Виолетта предпочла бы, чтобы она изображала что-нибудь более веселое, а не эти унылые упражнения, которые и без того заполняли ее дни. Но это был подарок отца, и поэтому она повесила репродукцию у себя над головой, чтобы она всегда была поблизости и вместе с тем чтобы не смотреть на нее.
Смотрела Виолетта на противоположную стену, поверх столика с проигрывателем и пластинками. На совершенно голую стену, на которой можно увидеть все, что захочешь, особенно если лежать свернувшись калачиком, прикрыв глаза, и особенно если из проигрывателя доносится мелодия, под которую невольно рождаются видения. Теперь, оставшись одна в прибранной комнате, ты можешь позволить себе и видения.
Она подошла к проигрывателю, подняла крышку, поставила пластинку. Пластинка начиналась с танца шести лебедей из третьего действия, впрочем, это не имело значения, музыку балета Виолетта знала наизусть. Она включила проигрыватель, потом зажгла стоявшую рядом с ним настольную лампу. Кровать ее находилась в самом дальнем от окна темном углу комнаты. Но она зажгла лампу не для того, чтобы стало светлее, а для настроения. От розового абажура лампы на голой стене загоралось нежное розовое сияние, отличный фон для прекрасных видений.
Но от света, даже розового, увы, не становится теплей. Виолетта сняла с вешалки большую шаль, закуталась в нее, сбросила туфли и, улегшись на кровати, устало всматривалась в нежное сияние на стене и вслушивалась в свою любимую мелодию «Вальса невест». Всматривалась, но мираж не возникал. Если мираж рассеялся, он не появится тотчас же снова. Видение – все-таки не кино.
Может быть, ему мешал появиться и этот запах дешевого одеколона, который стоял в комнате даже сейчас, после того, как она ее проветрила. Одеколон Мими. Или Васко. Трудно упиваться красотой, вдыхая, словно в скверной парикмахерской, тяжелый запах «Табака».
Она давно привыкла к капризам своей напрасной погони за миражами, и разочарования уже не причиняли ей боли, а оставляли в душе лишь легкую горечь. И если сейчас горечь была сильнее, чем обычно, то причиной этому был отец. Придется признаться ему, что она ошиблась, что ей и не думали давать роли. Конечно, она преподнесет ему неприятную новость в лучшей из возможных упаковок. Она не любила лгать, тем более отцу, но когда это ложь утешительная…
Мираж не возникал, но, подчиняясь течению мелодии, она мало-помалу успокаивалась. Проигрыватель был, как всегда, включен на полную громкость, чтобы звуки обступали ее как можно плотнее, чтобы она глубже погружалась в потоки музыки. Глаза прикрыты – так лучше следить за развитием темы, представлять ее себе в движениях, цвете и формах, в смутных движениях неясных форм, потому что видение все еще не появлялось.
Видение не появлялось, зато объявились Мими и Таня. Они влетели в комнату, оживленно болтая, и тут же кинулись варить кофе, потому что принесли настоящий, а не тот, из бакалеи, пропахший мылом и салом.
– Ты скоро совсем рехнешься со своим проигрывателем, – крикнула ей Мими. – Сделай потише, разговаривать невозможно.
Она не сделала тише, а просто выключила его. Все равно их трескотня заглушила бы музыку. Повесила шаль, сняла с вешалки пальто.
– Куда это ты собралась? – спросила Мими. – Мы на тебя тоже варим.
– Пойду разомнусь перед репетицией.
– Господи, так и горит на работе! – воскликнула Таня. – Вот уж правду говорят…
Она осеклась и замолчала, встретив сердитый взгляд Мими.
«Говорят, что ты старательная дура», – закончила про себя фразу Виолетта, выходя на лестницу. Если тебе чего-то не могут простить, то именно твоего горения. Люди снисходительны к тому, кто походит на них и не старается стать лучше. Но если ты пытаешься быть выше других, то напрасно ждать симпатии с их стороны. Ведь они расценивают твое поведение однозначно, как стремление выделиться, хотя ты ничуть не лучше их.
Не было еще и четырех, а ноябрьский день так нахмурился, словно уже наступил вечер. Она шла своим обычным маршрутом по этим серым боковым улицам, которые не останавливали взгляда и ничем не отвлекали от мыслей. Пожалуй, лучше бы отвлекали. Что пользы перебирать одно и то же в уме и переливать из пустого в порожнее.
В артистической не было ни души. Она положила сумку возле гримерного столика, села на свое место и привычно устремила взгляд в зеркало на свое лицо. Хорошенькое, по мнению одних, и анемичное, почти бескровное, по мнению других, в общем, одно из тех лиц, о которых можно услышать противоположные суждения. Ей самой, однако, не нравилось в собственном лице то выражение боязливости, от которого она никак не могла избавиться. Детское выражение робости в твои почти тридцать лет… Может быть, все дело в глазах… этих больших, чуть испуганных глазах, которые когда-то, кажется, были голубыми, но с годами стали совсем серыми, будто она долго всматривалась во что-то очень светлое или очень далекое.
Лицо достаточно приятное, чтобы не считать себя уродиной, и достаточно неприметное, чтобы привлекать к себе чересчур большое внимание. В общем, мужчины не бегают за тобой. Незнакомые редко тебя замечают, а знакомые считают слишком холодной и не желают тратить силы на ухаживание. Хотя иногда кто-нибудь, за неимением лучшего, делает попытку, как этот нахал виолончелист, заговорить в столовой или пристать на улице.
Она наклонилась к сумке и принялась доставать одно за другим все свое снаряжение – черный купальник, трико телесного цвета, туфли… На дне осталась только коробочка с гримом и серая плюшевая собачка.
Виолетта кончала экзерсис, когда в зал влетела Таня:
– Маргарита! Быстро в кабинет директора! Вас с Мими вызывают…
Она побежала на верхний этаж как была – в купальнике, так же, как выбегала утром. Побежала с мыслью, что, вероятно, сейчас повторится утренняя история, и с робкой надеждой, что она не повторится. Мими уже ждала ее у дверей кабинета.
– Ты помалкивай… – предупредила она. – Предоставь мне вести переговоры… Если они вообще будут.
Виолетта только однажды, вскоре после своего прихода в театр, имела удовольствие или неудовольствие побывать в кабинете у начальства, и тогда обстановка показалась ей весьма торжественной. Сейчас же в смешанном свете догорающего дня и оранжевой люстры, распространявшей какой-то болезненный свет, кабинет с обшарпанной мебелью и потертым ковром показался ей довольно убогим.
Директор сидел за столом, откинувшись на спинку кресла и устремив задумчивый взгляд на оранжевую люстру. В прошлом певец, он давно потерял голос, но заботливо сохранял объем своего тучного тела и даже ухитрился несколько его увеличить. Как тенор он не сумел приобрести громкого имени, но как директор пользовался неплохой репутацией. Подчиненные говорили, что добра от него не дождешься, но и вреда он тоже не причинит.
Директор медленно перевел глаза с люстры на Мими и Виолетту, слегка кивнул, однако ничего не сказал, а глянул вправо, где на казенном кожаном диванчике расположился балетмейстер, тот самый сухарь, которого Мими считала своим смертельным врагом.
– Ну как, Мими, отменим «Лебединое озеро» или будем танцевать? – спросил смертельный враг.
Шутливая интонация, с которой были произнесены эти слова, явно противоречила хмурому выражению его лица. Этот сухой и неприветливый, несмотря на молодость, человек, на взгляд Мими и не только ее одной, был виноват во многом. Во-первых, он кончил балетное училище не как танцовщик, а как балетмейстер, и, следовательно, ему легко было командовать; во-вторых, он до того любил дисциплину и порядок, что распоряжался в театре, как в казарме; в-третьих, опасаясь, как бы с ним не стали фамильярничать, он относился ко всем так, что его иначе, как сухарем, назвать было нельзя, но главная его вина заключалась в том, что он считал Ольгу верхом совершенства.