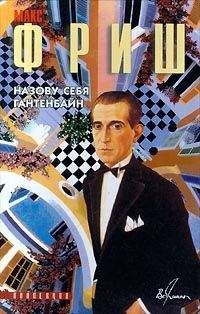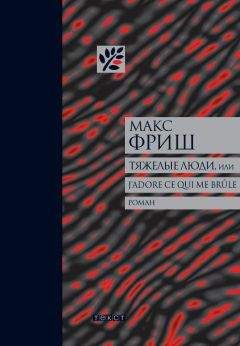— Так Иоахим, значит, не женат?
— Нет, — ответил он.
— Развелся?
— Да, — сказал он.
— Мы тогда частенько играли с ним в шахматы.
— Ясно, — сказал он.
Односложность его ответов подействовала на меня.
— На ком же он был женат?
Я спросил это просто так, чтобы убить время; меня нервировало, что нельзя было курить, я держал во рту незажженную сигарету. Герберт слишком долго думал, хотя давно уже было ясно, что положение ему не спасти: у меня был лишний конь, и как раз в ту минуту, когда я окончательно оценил свое бесспорное преимущество, он после длительного молчания, так же мимоходом, как я спросил, назвал имя Ганны.
— На Ганне Ландсберг, она из Мюнхена, полуеврейка.
Я ничего не сказал в ответ.
— Ваш ход, — напомнил он.
Мне кажется, я не выдал себя. Я только машинально зажег сигарету, что было строжайше запрещено, и тут же ее потушил. Я делал вид, что обдумываю ходы, и терял фигуру за фигурой.
— Что с вами? — спросил он со смехом. — Что это с вами?
Мы не доиграли партию — я сдался… и, повернув доску, принялся заново расставлять фигуры. Я даже не решался спросить, жива ли еще Ганна. Мы играли много часов кряду, не проронив ни слова, и только время от времени передвигали наши ящики из-под кока-колы в погоне за тенью, а это значило, что мы вновь и вновь попадали на раскаленный песок, с которого только что ушло солнце. Пот катил с нас градом, как в финской бане; мы безмолвно сидели, склонившись над моими дорожными кожаными шахматами, на которых, к сожалению, оставались следы от капелек пота.
Пить было уже нечего.
Почему я не спрашивал, жива ли еще Ганна, не знаю — может быть, из страха узнать, что она погибла.
Я подсчитал про себя, сколько ей теперь лет.
Я не мог себе представить, как она выглядит.
Уже к вечеру, перед тем как начало темнеть, прилетел наконец обещанный самолет — машина спортивного типа; она долго кружила над нами, перед тем как сбросить парашюты с грузом: три мешка и два ящика, которые приземлились в радиусе трехсот метров от нашего лагеря; мы были спасены: Carta Blanca, Cerveza Mexicana — хорошее пиво; этого не мог не признать даже немец Герберт, когда мы стояли с консервными банками пива в руках посреди пустыни — целое общество в бюстгальтерах и трусах, да еще на фоне заката, который я, кстати сказать, заснял своей камерой.
Ночью мне снилась Ганна.
Ганна — сестра милосердия и почему-то верхом на лошади!
На третий день в нашем лагере сел наконец вертолет, чтобы увезти, слава богу, мамашу-аргентинку с ее двумя детьми и письма — он ждал целый час, пока мы их напишем.
Герберт тут же написал в Дюссельдорф.
Все сидели и писали.
Писать было просто необходимо, хотя бы для того, чтобы люди не приставали с вопросами: «Разве у вас нет ни жены, ни матери, ни детей?» Я достал свою портативную машинку (фирмы «Гермес» — она и сегодня еще полна песка) и вставил лист — точнее, два листа — с копиркой, так как предполагал написать Вильямсу, отстукал дату, а потом, строчкой ниже, обращение:
«Му dear»[19].
Итак, я писал Айви. Давно уже я испытывал потребность во всем разобраться, поставить точки над «и». Наконец-то я обрел необходимый для этого покой — покой бескрайней пустыни.
«Му dear».
Чтобы сообщить, что я очутился в пустыне, в шестидесяти милях от дорог и жилья, много времени потребовалось. Потом я добавил, что здесь очень жарко, что погода отличная, что я не ранен, ну ни царапинки, и так далее, и даже привел для наглядности несколько подробностей: ящик из-под кока-колы, трусики, вертолет, знакомство с шахматистом, — но всего этого еще было мало, чтобы получилось письмо. Что же еще написать? Голубоватые горы вдали… Еще что? Вчера дали пива… Еще что? Не мог же я попросить ее об услуге — скажем, отправить мои пленки, я прекрасно отдавал себе отчет в том, что Айви, как всякую женщину, интересуют только мои чувства, на худой конец мои мысли, если уже нет чувств, а ход моих мыслей был мне совершенно ясен: я не женился на Ганне, которую любил, так почему же я должен жениться на Айви? Но сформулировать это, не обидев ее, оказалось чертовски трудно, потому что она ведь ничего не знала о Ганне и была хорошей бабой, но, увы, принадлежала к той категории американок, которые считают, что каждый мужчина, с которым они спят, должен стать мужем. К тому же Айви была замужем, уж не знаю, в который раз, и ее муж, чиновник в Вашингтоне, вовсе не собирался давать ей развод, потому что любил Айви. Догадывался ли он, почему Айви регулярно летала в Нью-Йорк, я не знаю. Она говорила ему, что ходит к психоаналитику; она в самом деле к нему ходила. Так или иначе, ко мне он ни разу не заявлялся; и я никак не мог понять, почему Айви, у которой во всех других вопросах была вполне современная точка зрения, хотела во что бы то ни стало превратить нашу связь в брак; ведь и так последнее время у нас были одни только скандалы, скандалы по любому, самому пустячному, как мне кажется, поводу. Скандал, например, из-за машины — «студебеккер» или «нэш»! Стоило мне только все это вспомнить, как пальцы так и забегали по клавишам, — более того, мне даже пришлось поглядывать на часы, чтобы закончить письмо до того, как вертолет пойдет на старт.
Мотор уже завели.
«Студебеккер» понравился не мне, а Айви — вернее, его цвет (она считала, что он красный, как томат, я — что он малиновый) отвечал ее вкусу, а не моему, ну а технические качества машины ее, собственно говоря, мало интересовали. Айви была манекенщицей, она выбирала платья в соответствии с цветом машины, цвет машины — в соответствии с цветом губной помады или наоборот, точно сказать не могу. Зато могу точно сказать, в чем она меня вечно упрекала: у меня совсем нет вкуса и я не хочу на ней жениться. При этом она, как я уже сказал, все же славная баба. Но мое намерение продать ее «студебеккер» она считала чудовищным и очень для меня типичным — я совершенно не думаю о ее туалетах, которые сшиты специально для малинового «студебеккера» и без него ей не нужны, да, все это очень для меня типично, потому что я эгоист, жестокий человек, дикарь во всем, что касается вкуса, изверг по отношению к женщине. Упреки эти я знаю наизусть и сыт ими по горло. Что я не намерен жениться, это я ей говорил достаточно часто, во всяком случае, давал понять, а в последний раз и прямо сказал — как раз в аэропорту, когда нам пришлось три часа ждать «суперконстэллейшн». Айви даже плакала, слушая, что я ей говорю. Но может быть, ей надо, чтобы это было написано черным по белому. Ведь если бы самолет сгорел при этой вынужденной посадке, ей бы все равно пришлось жить без меня, писал я ей (к счастью, под копирку) весьма недвусмысленно, чтобы, как я рассчитывал, избежать еще одной встречи и объяснения.
Вертолет был готов к старту.
У меня уже не хватило времени перечитывать письмо, я только успел сунуть лист в конверт и сдать его. Потом я глядел, как стартует вертолет.
Постепенно все мужчины обросли щетиной.
Я тосковал по электричеству…
В конце концов все это осточертело; собственно говоря, это было просто неслыханное дело, настоящий скандал; подумать только, всех нас — сорок два пассажира и пять человек экипажа — до сих пор не вызволили из этой пустыни. А ведь большинство летело по срочным делам.
Как-то раз я все же спросил:
— А она еще жива?
— Кто? — спросил он.
— Ганна, его жена.
— А… — Вот и все, что я услышал в ответ.
Он явно думал только о том, каким ходом парировать мою атаку (я разыгрывал гамбит), да при этом снова засвистел — а свист его меня и так раздражал, тихий свист без всякой мелодии, похожий на шипение какого-то клапана, совершенно непроизвольный, — и мне пришлось еще раз спросить:
— Где же она теперь?
— Не знаю, — ответил он.
— Но она жива?
— Я полагаю.
— Ты этого точно не знаешь?
— Нет, — сказал он, — но полагаю, что жива.
И он повторил, как свое собственное эхо:
— Полагаю, что жива.
Наша партия в шахматы была для него куда важнее.
— Быть может, все уже упущено, — сказал он после длительной паузы. — Быть может, все уже упущено.
Это относилось к шахматам.
— Она успела эмигрировать?
— Да, — сказал он, — успела.
— Когда?
— В тридцать восьмом году, — сказал он, — в последнюю минуту.
— Куда?
— В Париж, — сказал он, — а потом, видимо, дальше, потому что два года спустя и мы вошли в Париж. Кстати, это были лучшие дни моей жизни! До того, как меня отправили на Кавказ. Sous les toits de Paris[20].
Больше мне спрашивать было нечего.
— Знаешь, — сказал он, — мне кажется, если я сейчас не рокируюсь, мое дело — дрянь.
Мы играли все с меньшей охотой.
Как потом стало известно, восемь вертолетов американской армии трое суток прождали у мексиканской границы разрешения властей вылететь за нами.