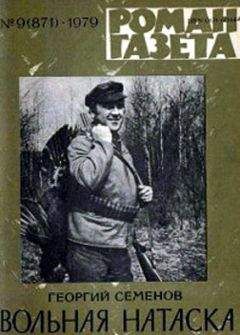«От дворянина я родом и от дворовой девки, — говорил Бугорков в минуты душевного разлада, когда ничто не радовало его в жизни и оставалось только это сомнительное утешеньице. — У меня, может, от этого душа горит, я, может, оттого и пью, что наш род от барского баловства на свет появился, от разврата его. Поганая кровь течет в моих жилах, оттого я и развязный такой делаюсь… Я с малолетства такой развязный был! Мог на спор в ледяной воде искупаться или с крыши спрыгнуть, аж с самого конька. Думаю, что в роду моем какие-нибудь гусары были, не иначе… Уж очень я подраться любил в молодости. И ловкий был в драке. В тебе-то этой крови барской вовсе не осталось, — говорил он внуку. — Ты вон и цветом не очень темен, и характер у тебя добрый. Это хорошо, С моим характером только коз пасти или зайцев гонять, а ты молодец — усидчивый».
«А что, дед, значит, можно сказать, мы не Бугорковы? — спрашивал его внук, глядя с затаенным обожанием ему в глаза. — Можно сказать, мы Самсоновы?»
«Вполне, — соглашался с ним Бугорков в такие минуты. — Но не надо! Чем, по-твоему, дворовая девушка хуже дворянина? Она ведь за простого мужика, за Бугоркова была отдана с дитем, вот и не надо нам другой фамилии. Не надо! Вот ты человек взрослый, вот я тебе скажу — ты небось заметил одну слабину во мне: уж очень горяч я в любви к бабам… А зачем мне это? Я и не хочу этого вовсе. Любовь эта не для нас. Нам от любви-то одна беда. А я вроде бы всю свою жизнь на это угробил. Для чего, спрашивается? Вот она где, самсоновская-то кровь поганая! Всю жизнь мою травит. Другому и горя мало, махнул рукой на бабу — и забыл про нее, а я, Николка, уважаю женщин… Вот какое неудобство вышло в жизни. А женщины, думаешь, не понимают этого? Как еще понимают! Ты сам-то хоть любишь кого-нибудь?»
«Люблю, дед!» — отвечал ему Коля Бугорков с улыбкой, представляя себе сразу же Верочку Воркуеву.
А дед глядел на него печально и отворачивался, выдыхая чуть слышные слова: «Ох, беда, беда…»
От второй жены приезжала к нему из Топольска дочь с маленькой девочкой, черненькой и игривой насмешницей Танечкой. Все перетряхивала в избе, стирала, мыла полы, терла стены можжевельником, морила клопов, ворчала на отца и на Танюшку и только дня через три успокаивалась и целыми днями пропадала на огороде.
В доме Бугоркова под дощатым медно-красным потолком крыльца жили осы в сером грушевидном мешочке, похожем на груду бумажного пепла, из которого вырывались вдруг полосатые тигрята и улетали куда-то. Вечно в этом пепле зудело летучее семейство, и звук всегда стоял такой же пронзительно-тихий, какой бывает, когда перегорает электрическая лампочка. Казалось, что там тоже было нечто похожее на раскаленный вольфрамовый волосок, в этом пепле.
Когда-то Бугорков пытался разорять гнездо, но, кроме неприятностей и злых укусов, ничего не добился — осы опять строили себе гнездо — и с некоторых пор поддерживал с ними нейтралитет. Но все-таки иной раз какая-нибудь неосторожная обнаглевшая оса кусала внучку, которая очень пугалась и молча бежала домой с ужасом и страшной обидой в глазах, а дома. взрывалась воплем слезного плача, жалуясь во весь голос на полосатую вражину. Особенно много и часто кусали ее возле колодца, где всегда была влажная земля и куда осы, видимо, прилетали в жару на водопой. А внучка босая ходила туда играть в сыром песочке и наступала на кусачку.
Тогда Бугорков тоже убивал в знак протеста двух или трех заложниц, вечно ползающих и жужжащих в верхней двойной раме окна, и клал их скорчившиеся тельца на перильце, чтобы другие осы видели его месть и помнили о его силе. Да и внучку свою успокаивал таким необычным способом: она тут же умолкала и даже улыбалась от внезапного удовольствия, видя дохлые тельца лимонно-черных красавиц.
Летом, когда в деревню приезжало много нарядной молодежи, Бугорков жил отчужденно от людей, понимая себя безнадежно состарившимся, а потому и никому не интересным человеком; сторонился молодых людей, не желая быть им в тягость, боясь напомнить лишний раз и самому себе о своей необратимой и глухой старости, да и людей молодых хотел освободить от лишних раздумий на этот счет, хотя по давнему своему опыту знал, что молодежь редко задумывается о старости. И как это ни странно, совсем переставал напиваться пьяным. Так ему, видимо, приятнее было жить, сохраняя в себе, как ему казалось, свою никому не ведомую молодость и молодую жажду жизни, которую он еще не утолил и которая с годами как будто бы стала сильнее мучить своей внезапной и резкой тоской по быстротечности жизни.
В минуты этой тоски он дряхлел душою, становился молчаливым и злым и его тянуло прочь от людей, словно бы где-то за неведомым изгибом Тополты, за ее высокими песчаными берегами далеко от дома он наконец-то увидит что-то такое, чего еще не успел увидеть, не успел удивиться чему-то небывалому. И в протяженной этой, долгой и вечной, как жизнь, мечте он садился где-нибудь под кустом на теплый песочек, смотрел, как крутит вода на бурчале, как режет реку упрямый островок; разглядывал парящего коршуна в жарком бесцветном небе, его раздвоенный длинный хвост, клекот его слышал; видел синие вспышки пролетающих над водой кургузых зимородков, вспоминал красивых и сильных голавлей, которых он ловил здесь когда-то на стрекозу, и как жестко упирались они в придонной воде, и как гнулось удилище и ходила натянутая леска, а он сидел тогда, совсем еще нестарый, на поваленном дубе, опустив голые ноги в. струи теплой воды, и знал, что этот голавль не последний и тот, который попадется завтра на крючок, тоже далеко не последний… Теперь их мало осталось в Тополте.
Ходила об этой реке легенда, что под песчаным ее дном хранятся несметные богатства — тысячи кубометров древнего мореного дуба, достать который стоит огромных денег, и, что-де американцы предлагали, очистить дно реки, да наши не согласились, потому что, может быть, и у нас когда-нибудь найдется время и деньги и придет острая нужда в мореном дубе: вот тогда и вспомним о Тополте. Бугорков знал и верил в эту легенду, вполне одобряя решение наших властей.
«А что, Николаша, хорошая у тебя девушка?»
«Замечательная, дед! Лучше не бывает…»
«Ох, беда, беда! Не живут они с нами, Николашка. Вот беда так беда! Самсоновская кровь поганая губит нас своим развратом. Ты с ней поласковее будь… Не очень-то притесняй».
«Что ты, дедушка! Я люблю ее по-настоящему».
«Беда с тобой, Николашка, беда…»
Коля Бугорков, конечно же, опять пришел к Верочке Воркуевой, пришел с самыми решительными намерениями, но, к огорчению своему, не застал ее дома. Встретила его Анастасия Сергеевна, робко-удивленная и приветливая, как и прежде. Пригласила в комнаты, и Бугорков не отказался, хотя и не готов был к какому-либо разговору с воображаемой своей и уже давно обожаемой «тещенькой», которую он еще и потому, наверное, так нежно любил, что находил в ней большое сходство с Верочкой: она так же приятно и застенчиво удивлялась, так же, как когда-то Верочка, была внимательна к нему, только отцвели, поблекли краски.
Она, как всегда, спросила первым долгом:
— Хотите перекусить? Или чаю? Вы обедали сегодня?
— Спасибо, Анастасия Сергеевна, — с грустью отвечал Бугорков, присаживаясь к столу и делая это без прежней уверенности в себе. — А что Верочка? Скоро ли. она придет?
— Боюсь, что нет, Коля, у них сегодня вечер на факультете, танцульки всякие…
— Жаль, — сказал Бугорков. — Вы, наверное, знаете, она не очень-то жалует меня в последнее время. Вернее сказать, просто на порог не пускает. Сегодня мне повезло. — И он несмело усмехнулся, по-дедовски быстро вскинув глаза на Анастасию Сергеевну, которая в ответ виновато улыбнулась и, прикрыв глаза, легонечко закивала ему в знак того, что она хорошо понимает его.
Он же испытывал в эти минуты острое желание обо всем рассказать доброй Анастасии Сергеевне, повиниться перед ней, пожаловаться на Верочку и попросить о помощи. «Что же теперь делать? — сказал бы он ей. — Я ведь люблю ее». Он был почти уверен, что Анастасия Сергеевна поможет ему и уговорит дочь помириться с ним. И если бы она в эти минуты сама начала об этом разговор, он, наверное, не сдержался бы и выложил все как на духу.
Но что-то вовремя подсказало Анастасии Сергеевне уйти от продолжения этого трудного разговора, что-то, видимо, предостерегло ее об опасности, она смутилась и как о деле уже давно решенном сказала, преодолевая неловкость:
— Вы посидите тут, а я быстренько чайник… У меня сегодня торт есть.
Бугорков даже не успел возразить ей, как она уже гремела на кухне посудой, ставя чайник на газ.
Он оглядывал комнату, в которой давно уже не бывал, и не в силах был даже на миг представить себе, что сможет дальше жить без этого абажура над столом, без этого комода под красное дерево, без книжного шкафа с блекло-серыми, а некогда голубыми, наверное, шторками, без этой тяжелой хрустальной пепельницы, в которой чего только не было — и наперсток, и заколки, и катушки ниток, и старый пионерский значок, и лезвие бритвы, и мелкие монеты, и маленькие изогнутые ножницы, и даже нитка искусственного жемчуга; пепельница эта стояла на комоде, на кружевной, старинной скатерти, пожелтевшей от времени. На комоде стоял еще радиоприемник, на шкале которого было так много названий городов мира, так приятно и бархатно разливал он по вечерам музыку, так уютно светились эти далекие и близкие города и зеленый глаз индикатора, когда погашен уже верхний свет и горит розовый торшер, освещая необыкновенное лицо милой Верочки Воркуевой, — все это вместе было таким привычным уже и незыблемым, что представить себе или даже просто предположить, что всего этого может вовсе и не быть, Бугорков уже не мог. Не говоря уж о том, что Анастасию Сергеевну и Олега Петровича он любил как отца с матерью и расстаться с ними навсегда было бы для него невыносимой мукой.