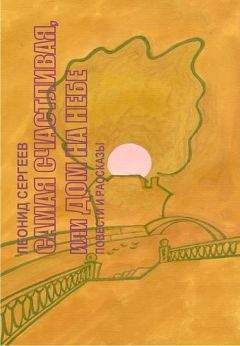Как-то засиделись у деда до полуночи. Он постелил на полу мешки из-под муки, на них положил овечий тулуп, и мы с Вишней плюхнулись в мягкие завитки. Стало тихо, только слышалось тиканье ходиков, жужжанье мухи в паутине, да дребезжало стекло от шума ночного грузовика, и с потолка на стены сползали полосы от фар.
— Неужели и черти на свете есть? — тихо произнес Вишня.
— А как же, — хмыкнул дед, сворачивая самокрутку из газеты. — Черт, скажу вам, самый что ни на есть бедняк. Живет на болоте. Негде даже отдохнуть толком. Я уж не говорю, хозяйством обзавестись. А тут еще поминают его худыми словами. И зря. С чертом ладить можно. Поручишь что-нибудь, всегда сделает. Услужливый, старательный.
— Так чего ж их не заставят работать? — наивно спросил я. — Пусть пилят дрова, носят воду.
— Ишь чего захотел! А ты будешь лежать, пирогами объедаться! Тогда, брат, такая лень на землю спадет, все и вовсе перестанут работать.
Вишня хихикнул. Дед закурил, закашлял, его щеки то надувались, то втягивались.
— А вот леший живет в добротной избе. Любит выпить медовухи, сразиться в картишки… Все лешие женаты. Лесечихи толстые, ужас какие. Потолще моей бабки Пелагеи, царство ей небесное!.. Так вот, лесечихи работящие, стряпают от зари до зари, а мужья ходят по лесу, шалят, канальи. Наклюкаются медовухи и пугают зверье и людей. Идешь по лесу, подкрадутся, шепнут что-нибудь. Могут и палкой огреть… А так они ничего, не больно досаждают.
Мы с Вишней съежились, замерли. Дед снова закашлялся, покраснел, растер грудь ладонью.
— А лучше всех из нечистой силы домовой. Этот мужик, скажу вам, знает толк в хозяйстве. Может дельный совет дать… Вот у нас жил на прежней избе, где щас амбар. Жили мы душа в душу. Бывало, говорит: «Кто меня любит, того и я люблю». Иногда ворчал: «Холодновато у тебя, хозяин. Не жалей дров-то, не жадничай и шамать побольше оставляй».. Прожили мы этак лет десять, не меньше. Потом Пелагея с домовихой начали ссориться. Известное дело, где бабы, там и ссоры. Под Троицу подзывает меня. «Тесно, — говорит, — нам, хозяюшка, в одной избе. Давай-ка оставь мне эту, а себе новую отгрохай». Вот и срубил я эту избу. Когда расставались, он в три ручья рыдал… Ну, да Бог с ними со всеми. Пора на боковую…
Дед потушил самокрутку, прокашлялся и, как бы приободряя нас, закончил:
— Я в них верю-верю, а потом всех пошлю к ядреной матери… Я ведь и в Бога-то не больно верю. Ежели уж захвораю. Тогда помолюсь, а после пропущу стаканчик первача, хворь и отступает.
Дед Арсений при мельнице разбил сад. Однажды я спросил:
— Зачем тебе столько деревьев?
— Разве ж это мне? — усмехнулся. — Да если б не сад, разве ж я мог спокойно умереть? Ну жил, ну муку молол всю жизнь, и что? Нет у меня ни детей, ни, скажем, не строил я самолеты, как ваши отцы. А ведь каждый должен после себя что-то оставить. Вот я и оставлю сад. Небольшое дело, но все ж полезное.
Сад деда Арсения в моем детстве — прекрасный пример человеческой щедрости. Как некий зеленый храм я вижу его до сих пор, и среди деревьев — старик, переполненный счастьем…
Конечно, счастье — понятие относительное. Тот, кто живет в благоустроенной квартире и смотрит на мир из автомобиля, считает разных бессребреников несчастными людьми, а те в свою очередь считают его несчастным, ведь у них другие понятия о ценностях.
По утрам над мастерской качались верхушки сосен и в разрывах хвои клубилась яркая синь, а над лугами параллельно земле скользил веер лучей. Мы с Вишней спускались к Казанке, подбегали к плотине, где вода бурлила, пенилась и бросалась вниз в шипящие завитки… Уплывали к затону, где разноцветные тыквы служили поплавками для сетей рыбаков, где над травами висели дрожащие стрекозы. Барахтались среди плавающих широких листьев и пахучих кувшинок, тянули тугие, будто резиновые, стебли, которые шумно лопались, поднимая множество серебристых пузырьков.
Возвращаясь с Казанки, заходили в мастерскую, смотрели, как ремонтировали какой-нибудь драндулет, или просто лежали у шоссе, рассматривали проезжающие грузовики и легковушки.
Часто по шоссе на мужском велосипеде ездила тонкая девушка. У нее были светлые волосы, завязанные узлом, но главным украшением являлась улыбка. Эта улыбка была как чудо. И вся девушка, яркая, гибкая, выглядела неотразимо. Она жила в соседнем кирпичном доме. Каждое утро привязывала к багажнику книги и ехала в рабочий поселок, а в полдень возвращалась обратно. В полдень я всегда стоял у мастерской и смотрел на нее, и весь мой дурацкий вид выражал тихий триумф. Несколько раз она замечала меня, улыбалась и кивала, как хорошему знакомому, и всегда, когда она смотрела на меня, я испытывал какое-то возвышенное чувство. Однажды она подъехала и спрыгнула с велосипеда:
— Что ты так смотришь? Как тебя зовут? Я нравлюсь тебе, да?
Я хотел убежать, но был не в силах сдвинуться с места.
— Если я тебе нравлюсь, почему не подаришь мне цветы? — засмеялась, наклонила велосипед, перекинула ногу через раму и оттолкнулась.
— Смотри, в следующий раз подари! — крикнула, отъезжая.
В романтической приподнятости я стоял с незабудками на шоссе весь день, но ее не было. Я расстроился до тоски. Она показалась только к вечеру с парнем из нашего общежития; он вез ее на раме, что-то говорил в самое ухо, и она смеялась. Около закусочной они остановились, и парень скрылся за дверью. Она достала из кармана платья карандаш, стала постукивать им по зубам. Вдруг заметила меня и весело, с неизменной улыбкой, сказала:
— А, это ты, мальчуган? И кого это ты здесь ждешь с цветами? Кому назначил свидание? Ну отвечай!
От внезапного потрясения я не мог произнести ни слова. Где ей было знать, какую она причиняет мне боль, как унижает небрежность в ответ на любовь. Я протянул ей букет и хотел сказать, как сильно ее ненавижу, но тут подошел парень с бутылкой вина. Она сунула букет в карман, они сели на велосипед и с залпами смеха покатили к Казанке. Я бежал за ними, прятался за деревьями, терял их из вида и выслеживал снова и задыхался от жгучей ревности. До позднего вечера они бродили в лугах, обнимали друг друга, падали на землю и жадно целовались.
То далекое время! Струящийся, бьющий свет, разгул теплого ветра, качающиеся кусты, шелестящие травы, цветочная пыльца, бронзовые жуки, трепещущие крылья стрекоз, шершавая, чешуйчатая кора сосен, красочные тыквы в сетях, лодки, исхлестанные волнами, удушливый дым в мастерской, побитые колымаги, блуждающие огни на вечернем шоссе… наш зеленый поселок, заборы из штакетника, увитые вьюнком, на грядках желтые граммофоны цветов и за ними пупырчатые огурцы, домашний борщ из свеклы с ботвой, хлеб грубого помола… простые люди, размеренная бесхитростная жизнь… Почему все это вспоминается? Что за наваждение?! Так наседает прошлое, и никуда от него не деться! Ведь если живешь прошлым, значит, что-то не так в настоящем, а хочется верить, что и в настоящем все не так уж и плохо.
…Я отправился за этими воспоминаниями, чтобы воссоздать атмосферу того времени, хотел вновь все пережить, осмыслить и навсегда расстаться, чтобы освободиться от прошлого, как бы расчистить свое пространство, чтобы дальше с открытой душой впитывать новые впечатления. Но у меня получается всего лишь ностальгия по прошлому. И ладно б стройная хроника — свидетельство сороковых годов, а то ведь одни метания под натиском воспоминаний, тщетная попытка отправить послание другим людям.
9.Перебравшись в Москву, я все хотел съездить в детство. Я знал, меня помнят: и друзья, и деревья, и кусты, и камни. По еле различимым, стертым полутонам, по растворившимся, но еще улавливаемым запахам, по отзвукам прежних голосов я хотел восстановить прошлое, почувствовать очистительное воздействие воздуха детства. И вот однажды проездом на Урал остановился в Казани.
Выйдя из трамвая, я пошел в сторону шоссе. Раньше от конечной остановки трамвая до мастерской стояли сосны, а теперь их вырубили и построили двухэтажные дома. Около домов пузырилось сохнущее белье и гоняли в футбол мальчишки. Когда я свернул с дороги, еще не было и девяти часов, но уже припекало. Мне казалось, что идти лугами до мельницы довольно далеко, но расстояние оказалось до смешного ничтожным, преодолел его минут за десять; и раньше в лугах был высокий травостой, а теперь виднелись сплошные вытоптанные «пятаки». Кустарник у мельницы вырубили и уже не слышался шум воды, падающей с плотины — речка пересохла и заросла осокой, а мельница развалилась и осыпалась. Все оказалось маленьким, почти игрушечным. Все, кроме кладбища. Оно порядочно разрослось.
Я пошел мимо крестов и скользких мраморных плит и вдруг услышал лязг лопаты; обернулся и увидел деда Арсения. Я узнал его сразу, хотя он и стал дряхлым старцем.
— Доброго здоровьица, мил человек! — прошепелявил старик на мое приветствие и продолжал ковырять лопатой.