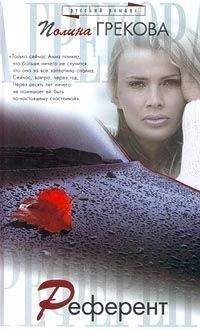Как впоследствии выяснилось, от интонации, с которой он произносил приговорку, и зависело любое его решение. Если зловещим тоном, а далее все остальное приветливо, то все равно в конце объявлял о водворении в карцер. И наоборот. Приветливое «это само дело ебиомать...», несмотря на последующий разнос, наставления и предупреждения, заканчивалось поощрением или благодарностью. При всем при этом человек он был неординарный и в некотором роде даже уникальный, хотя бывал порой жестким и даже жестоким.
Приговорка была фирменным «лейблом», и в лагере иногда его потихонечку передразнивали. Полностью произносил он ее только в особых случаях. «Вот так это дело, само дело ебиомать...» В разговоре же в качестве связующего звена применял в сокращенном варианте — «самдел ебиоть...» Но что более всего удивительно — только в разговоре с заключенными или работниками колонии — не важно, женщины это были или мужчины. Даже в присутствии прокурорских чинов и вышестоящего начальства. И никогда — в присутствии родственников, приехавших на свидание, или других вольных лиц, не имеющих отношения к колонии.
— Вы вдвоем прибыли? А третий где? — спросил он, перелистывая личное дело.
— В тюрьме остался. Его, наверное, на другую зону отправят, — ответил Толя.
— Так... профессии какие есть? Если есть, пусть родственники, вот так само дело, документы пришлют.
— Да какие профессии: я — музыкант, он — директор, — улыбнулся я.
— Это не профессии. Здесь — не профессии. У вас ведь иск, так? Погашать как будете? Что-то погасили уже?.. Статья с конфискацией?.. Так... Ага, понятно, — бормотал он себе под нос, листая дело, — так...самдел ебиоть...вину не признаете? Так?
— Так.
— Конечно, не признают, хе-хе. Конечно, ничего погашать не хотят. Чтоб такой иск гасить, надо работенку высокооплачиваемую иметь. У нас тут где самые высокие заработки? — мелко посмеиваясь, вмешался в разговор Дюжев. Все это время он сидел молча и внимательнейшим образом, улыбаясь, разглядывал нас обоих.
— Кажется, на разделке? Или в лесоцехе? — картинно повернулся он к сидящему рядом майору добродушного вида с проседью на висках. Майор улыбнулся и молча кивнул.
— Вот, начальник производства, майор Пентегов, вас устроит на самые высокооплачиваемые должности, — продолжал ехидничать Дюжев.
— Да мы, в общем-то, на теплые места и не рассчитываем. Куда поставите — там и хорошо. Нам везде хорошо, — в тон Дюжеву ответил я.
— Было хорошо, — поправил Дюжев.
Повисла глупая пауза.
Первым ее нарушил Нижников:
— Ну, вот так это само дело ебиомать... У нас тут производство большое. Летом сплав. Зимой разделка. Лесоцеха свои. Пилим, само дело... Погрузка в вагоны. По всей стране. Вот так, ебиоть, отправляем.
Далее он стал рассказывать о производстве, о нормах, о трудовых подвигах и местных «стахановцах», которые ударным трудом заслужили досрочное освобождение и вместо того, чтобы «прохлаждаться здесь до звонка, ушли, вот так само дело ебиомать, досрочно...».
Потом говорил Пентегов. Следом — замполит Филаретов. За ним — еще кто-то. И так, в незаметно для всех потеплевшей атмосфере пришли к самой важной теме — клубу. И что представляет собой этот клуб в понимании лагерной администрации.
— Самодеятельность у нас, вот так это дело, хорошая. Вокально-инструментальный ансамбль есть, хор, народные инструменты, само дело... Но только тем, кто уже поработал на производстве год-два... Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Доказал трудом, вот так это дело ебиоть...
Нижников обвел глазами всех присутствующих.
— Правильно я говорю?
Присутствующие закивали. Дюжев сидел неподвижно, с той же ухмылкой, сложив руки в области пупа.
— А песни, эти, которые ты пел на магнитофон, вот так это само дело, — не те песни. Надо русские народные, трудовые, а не то что, ебиоть, в ресторанах там или где... А здесь это — нет...
— Нет, почему же, можно, здесь тоже поют. Вон, в изоляторе. Еще как поют, хе-хе, — заметил Дюжев. — Пожалуйста, пой. Каждой песне — свое место.
— В общем, так, — после нескольких незначительных вопросов ко мне и к Собинову начал подводить итог Нижников, — для начала определяем вас на разделку в 101-ю бригаду. Вот сидит ваш начальник отряда — капитан Грибанов, прошу любить и жаловать, как говорится, вот так это дело. — Повернувшись лицом к капитану, он хлопнул ладонью по столу.
— Принимай обоих. Парни здоровые, на разделке такие нужны. Поработают, мускулы накачают... так это дело... А потом можно и про клуб подумать. И работу другую, понимаешь, вот так это дело, само дело ебиомать.
Нижников приподнялся над столом. Все поняли — разговор окончен. Распределение тоже. Мы встали.
— Все понятно. Разрешите идти?
— В коридоре подождите. Нечего по зоне шляться. В карантин вас отведут, — вдогонку приказным тоном проговорил Дюжев.
— Так... Никуда не выходить. Ждите в коридоре, — первый раз за все время подал голос Грибанов.
Мы вышли на крыльцо и закурили.
— Ну, шило... Так я и знал. Как минимум полгода придется стреляться на этой ебаной разделке, — мрачно изрек Собинов.
— А как тебе начальник отряда? — спросил я.
— Как шавка подлаивает Дюжеву. По вйду — недалекий. Мне так кажется. Но рыть землю сейчас начнет всеми копытами — хозяин дал добро.
— Хорошо хоть, вместе в один отряд, так полегче все же. Хоть общаться будем по-человечьи. Чувствую, Грибанову это не очень понравилось. Будут нас разбивать, наверное.
— Вряд ли. Если бы хотели — могли это сделать прямо сейчас, — выпустил дым Толя. Вряд ли. А отрядник? Отрядник, как хозяин скажет, так и сделает. Надо к Нижникову подход искать.
— А Дюжев? Уматный тип. Как слон непробиваемый. И сам себе на уме. Правильно его тут «Дермантиновая жопа» называют! хе-хе...
— Да все они тут... Вот, бля, зверинец, вот попали... Кого тут только нет, и каждая блядь — начальник! Подожди, еще другие не проявились. Может, как проявятся, так и Дюжев благодетелем покажется.
Мы докурили и вернулись в штаб. Вышел Грибанов и нырнул в какой-то кабинет, бросив на ходу:
— Быстро в карантин. После проверки — в 10-й отряд. Завхоз придет за вами. Идите, идите, собирайте вещи.
И мы пошли.
Первый вопрос Чистова по нашему возвращению был:
— Ну что, куда? На прямые работы?
— В 101-ю.
— Так я и знал. Думал, еще, может, посмотрят на то, что вы в институте учились, что ты на гитаре играешь... Ясно. Значит, из управления цинканули. А может, хозяин сам так решил. Ну да ладно, давай чайку попьем, а то вечером вас уже в 101-ю загонят.
Мы пошли собирать вещи. Потом посидели за чаем.
— Если что, заходите, не стесняйтесь, всегда рад, — с этими словами Чистов проводил нас до крыльца.
Из карантина мы, не помню уж в чьем сопровождении, прибыли на место новой дислокации, в 10-й барак, где располагалась теперь уже наша, 101-я бригада. Основная, самая многочисленная в колонии, а потому находящаяся под пристальным вниманием полковника Нижникова. Бригадира звали Владимир Захаров, с естественно вытекающей из фамилии кличкой — Захар. Барак, в который мы поселились, был, в отличие от карантина, двухэтажный. Более поздней постройки, а потому — кирпичный. Двор почти ничем не отличался от карантинного — те же две березы, тот же дощато-бревенчатый настил. Разве что сортир в два раза больше да несколько огромных деревянных мусорных баков у забора, высотой по грудь и с разинутыми огромными откидными крышками. Внутри они кишели крысами, которые иногда выскакивали наружу и гонялись по бортам друг за дружкой. А то кучей мчались от баков к сортиру, ныряя в огромные щели настила или под стены крашенного известью антисанитарного нужника. Так как было их без счету, мусорный бак круглые сутки шуршал, цыркал и писклявил. В нем тоже шла жизнь. Это тоже был лагерь со своей иерархией и вечной битвой за место под солнцем.
На крыс никто не обращал внимания. К ним привыкли, с их присутствием смирились. Они тоже были зэки.
Ветки берез были голы. А стволы от постоянного лазания по ним все изодраны, отшлифованы сапогами, вакса которых, казалось, с годами въелась в бересту, сделав ее серо-черной. Меж крупных и толстых веток параллельно земле были прибиты какие-то доски, отдаленно напоминающие части разрушенного охотничьего лабаза. Назначение их для неопытного глаза было непонятно. Это был зимний «петушатник». В конце двора ютилась кочегарка — кирпичная коробка с черной дверью и трубой.
Барак стоял торцом к лежневке. За дальней его стеной — забор, опутанный колючкой. Контрольно-следовая полоса — «запретка». Потом еще забор. А далее уже и не видно.
Если бы барак был рабочим общежитием завода, фабрики, ПТУ или, на худой конец, казармой, в нем могло бы разместиться человек пятьдесят, от силы восемьдесят. В лагере с расселением проще — только на втором этаже проживало почти двести человек. Не считая петухов — они жили под лестницей и в предбаннике. Самые блатные из них — у дверей и в коридоре среди сапог. Но за эти места надо было биться. Поэтому драка и свара в этой части барачного поселения не прекращалась. Даже более жесткая, чем среди мужиков. Особенно зимой. Самых опущенных и слабых в морозы выгоняли жить в мусорные баки. Или на «лабаз» на березы. До конца зимы дотягивали немногие.