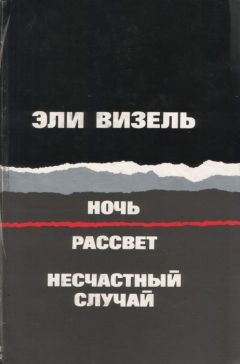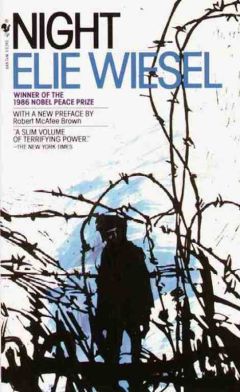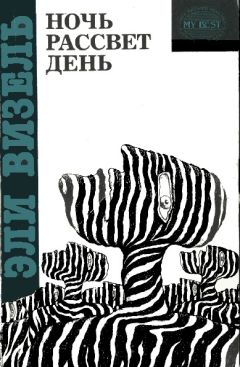Однако заметив, что его совет запоздал и от моей порции уже ничего не осталось, он даже не притронулся к своей. «Лично я не голоден», — сказал он.
Мы пробыли в Аушвице три недели. Делать ничего не заставляли. Мы вволю спали днем и ночью.
Нашей единственной заботой было избегать перемещений, оставаться здесь как можно дольше. Это оказалось несложно: просто не нужно было называться квалифицированным рабочим. Чернорабочих держали до самого конца.
А в начале третьей недели заключенного — старосту нашего блока отстранили от должности, его сочли слишком гуманным. Наш новый начальник оказался зверем, а его подручные — сущими чудовищами. Хорошие деньки миновали. Мы стали подумывать, не лучше ли постараться попасть в список для очередного перемещения.
Штейн, наш родственник из Антверпена, продолжал навещать нас и время от времени приносил пол-порции хлеба.
«Это тебе, Элиэзер».
Всякий раз, когда он приходил, по его лицу катились слезы. Он часто повторял моему отцу: «Заботься о своем сыне. Он очень слаб и сильно исхудал. Следи за ним хорошенько, чтобы избежать селекции. Ешьте! Не важно, что и когда. Ешьте все что можно. Слабый здесь долго не протянет…»
А сам он был такой худой, такой высохший, такой слабый…
«Единственное, что поддерживает мою жизнь, — часто повторял он, — это то, что Рейзел и дети живы. Если бы не они, я бы больше не вынес».
Однажды вечером он пришел к нам, лицо его сияло.
«Только что прибыл эшелон из Антверпена. Я пойду к ним завтра. Наверняка будут какие-нибудь известия.»
Он ушел.
Больше мы его не видели. Он получил известия. Он узнал правду.
По вечерам, лежа на койках, мы пытались петь какие-нибудь хасидские песни, и глубокий торжественный голос Акивы Драмера надрывал нам душу.
Некоторые из нас беседовали о Боге, Его таинственных путях, о грехах еврейского народа, о грядущем освобождении. Однако я перестал молиться. Как я понимал Иова! Я не отрицал существования Бога, но я усомнился в Его абсолютной справедливости.
Акива Драмер философствовал: «Господь испытывает нас. Он хочет узнать, способны ли мы возвыситься над своими основными инстинктами и убить в себе Сатану. Мы не смеем отчаиваться. Если же Он и наказывает нас беспрестанно, значит, Он все еще любит нас».
Герш Генуд, хорошо сведующий в Кабале, рассуждал о конце мира и приходе Мессии.
Лишь иногда, во время этих бесед, меня посещала мысль: «Где же сейчас моя мама? А Циппора…?»
«Твоя мама еще молодая женщина, — как-то сказал отец. — Должно быть, она в трудовом лагере. Да и Циппора уже большая девочка, правда? Наверное, она тоже в лагере».
Как бы нам хотелось поверить в это. Мы притворялись друг перед другом. Что, если один из нас все еще питает надежду?
Всех квалифицированных рабочих уже разослали по другим лагерям. Нас, чернорабочих, оставалось всего около сотни.
«Сегодня ваша очередь, — объявил писарь блока. — Вы отправляетесь со следующим конвоем».
В девять часов нам выдали дневную норму хлеба. Нас окружили человек десять эсэсовцев. На воротах — плакат: «Труд — это свобода». Нас пересчитали, мы тронулись по освещенной солнцем дороге. По небу плыли легкие белые облачка.
Мы медленно брели. Охранники не спешили, нас это радовало. Когда мы проходили через деревни, множество немцев глядело на нас без удивления. Видимо, они уже повидали немало процессий такого рода.
По дороге нам встретилось несколько молодых немок. Охранники стали заигрывать с ними. Девицы хихикали, довольные. Разражаясь хохотом, они позволяли целовать и щекотать себя. Они все смеялись, шутили и обменивались любезностями добрую часть пути. В это время нам, по крайней море, не пришлось опасаться ни выстрелов, ни ударов прикладами.
Часа через четыре мы прибыли в наш новый лагерь — Буна. Железные ворота захлопнулись за нами.
Лагерь выглядел, как после эпидемии — пустой и вымерший. Виднелось лишь несколько прилично одетых заключенных, бродивших между блоками.
Разумеется, для начала нам пришлось отправиться под душ. Там к нам подошел начальник лагеря — сильный, крепко сбитый, широкоплечий человек: бычья шея, полные губы, вьющиеся волосы. Он казался добродушным. Время от времени в его серовато-голубых глазах мелькала улыбка. В нашем конвое находилось несколько детей десяти-двенадцати лет. Офицер заметил детей и приказал накормить их.
После того, как нам выдали новую одежду, нас разместили в двух палатках. Надо подождать, пока нас запишут в рабочие команды, а потом разрешат перейти в блок.
Вечером рабочие команды вернулись с работы. Перекличка. Мы стали высматривать знакомые лица, добывать сведения, расспрашивать узников-«ветеранов»: какая рабочая команда лучше, в какой блок надо постараться попасть. Все заключенные в один голос заявили: «Буна — очень хороший лагерь, можете быть уверены. Главное, чтобы не перевели в строительную команду…»
Как будто выбор находился в наших руках.
Старшим по нашей палатке оказался немец. Лицо убийцы, мясистые губы, руки, словно волчьи лапы. Он был так толст, что с трудом передвигался. Как и начальник лагеря он любил детей. Как только мы прибыли, он принес им хлеб суп и маргарин. (Правда, это был не бескорыстный интерес: как я узнал позже, здесь между гомосексуалистами процветала торговля детьми.)
Старший объявил нам: «Вы пробудете здесь три дня в карантине, потом пойдете на работу. Завтра медосмотр».
Ко мне подошел один из его помощников — парень с жестоким лицом и хулиганскими глазами: «Хочешь попасть в хорошую команду?»
«Конечно. Только с одним условием: я хочу остаться с моим отцом».
«Ладно, — ответил он. — Я могу это устроить. За небольшую цену — твои ботинки. Тебе я дам другие».
Я отказался отдать ему ботинки, единственное, что у меня оставалось.
«Я дам тебе большой паек хлеба и маргарина».
Его очень привлекали мои ботинки, но я не отдал их ему. (В дальнейшем у меня их все равно отобрали, только я уже ничего не получил взамен.)
Медосмотр проходил под открытым небом рано утром. На скамейке сидели три врача.
Первый только осмотрел меня. Он ограничился одним вопросом: «Ты хорошо себя чувствуешь?» Кто бы рискнул ответить отрицательно?
Зато дантист оказался очень внимательным: он заставлял нас широко раскрывать рты. Однако его интересовали не больные зубы, а золотые. Каждого у кого во рту находили золото, заносили в список. У меня самого была золотая коронка.
Быстро промелькнули первые три дня. На четвертый день, на рассвете, когда мы стояли перед палаткой, появились капо. Они начали отбирать людей, тех, кто казался им подходящим: «Ты… ты… ты и ты…» Они указывали пальцем, словно отбирая скот или товары.
Мы последовали за капо, молодым парнем. Он остановил нас у входа в первый блок, у ворот лагеря. В этом блоке размещался оркестр. «Входите», — приказал капо. Мы удивились. Что нам за дело до музыки?
Оркестр играл военный марш, все время один и тот же. Множество команд, отправлявшихся на работу, маршировали в ногу. Капо отбивал такт: «Левой, правой, левой, правой!»
Несколько эсэсовских офицеров, с бумагой и авторучками в руках, подсчитывали проходивших людей. Оркестр играл все тот же марш, пока не прошла последняя команда. Тогда дирижерская палочка застыла. Оркестр умолк, а капо заорали: «Построиться по пятеро!»
Мы вышли из лагеря без музыки, но шагали в ногу: звуки марша все еще звучали в наших ушах.
«Левой, правой, левой, правой!»
Мы разговорились с музыкантами, шедшими рядом.
Мы построились рядами по пятеро, вместе с музыкантами. Почти все они были евреи: Юлек из Польши, в очках, с циничной улыбкой на бледном лице. Луис, известный скрипач из Голландии — он сетовал, что ему не позволяют играть Бетховена: евреям запрещалось исполнять немецкую музыку. Ганс, шустрый молодой берлинец. Руководил ими Франек из Польши, бывший варшавский студент.
Юлек объяснил мне: «Мы работаем в цеху электрооборудования, неподалеку отсюда. Работа ничуть не трудная и не опасная. Однако у Идека, капо, временами случаются припадки бешенства, и тогда лучше не попадаться ему на глаза».
«Тебе повезло, сынок, — улыбнулся Ганс. — Ты попал в хорошую команду».
Десять минут спустя мы стояли около цеха. Служащий — немец в гражданском, майстер, вышел нам навстречу. Он обратил на нас не больше внимания, чем старьевщик, получающий груду старого тряпья.
Наши товарищи не соврали: работа оказалась несложной. Мы должны были, сидя на полу, подсчитывать винтики, лампочки и мелкие электрические приборы. Капо долго распространялся о важном значении нашей работы и предупредил, что всякий, кто посмеет отлынивать, будет иметь дело с ним.