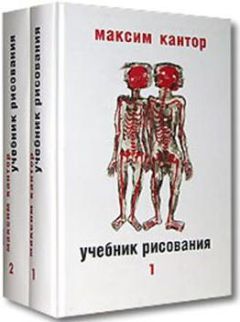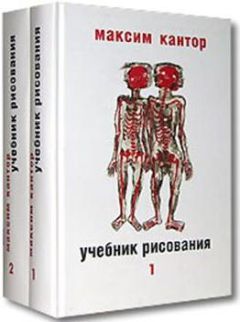- А вы, - спросила стриженая девушка у Павла, - тоже художник?
Она уже шла к мужу и вдруг обернулась назад, и взгляд ее карих осенних глаз прочертил темную линию от нее к Павлу. Ее взгляд был как выпад, он походил на движение живописца, стремительное, неуловимое движение к холсту мазок кисти, нагруженной краской. Павел почти увидел эту осеннюю краску, эту темную радугу взгляда, проведенную между ними. Так в иконах Треченто изображали нисхождение Святого Духа: властная линия, пересекающая пространство, перечеркивающая суету, отменяющая пустые будни.
Павел обычно стеснялся сказать, что он художник. Орден искусства, рыцарем которого он себя считал, запрещал всуе говорить о творчестве. Он находился в том счастливом возрасте, когда выставки, продажи, коллекционеры, эти неминуемые спутники творчества, еще не вошли в его жизнь. Ему вообще казалось, что следовало бы вовсе обойтись без выставок и зрителей. Но сегодня случился особенный день. Оказалось, произведения не просто жили в священной реальности, но сумели изменить реальность земную. Совсем как тогда на Монмартре. Совсем как в прочитанных книгах.
Опьяненный и девушкой, и выставкой, он серьезно подтвердил, что да, он - художник
- Я бы хотела увидеть ваши работы.
- Когда вам удобно? - спросил Павел.
И не услышал ответ, потому что именно в эту самую минуту сероглазая зрительница Лиза приблизилась к компании и, выделив Лугового как старшего, спросила, и, как обычно бывает с неискушенными в светских беседах людьми, спросила очень громко, словно всем ее вопрос должен был быть интересен:
- Скажите, а вот то, что мы видим, - это действительно второй авангард?
- Да, - сказал Однорукий Двурушник, - теперь это несомненно.
- Но ведь когда случился первый авангард в России, он одновременно был в разных странах, это правда?
- Действительно. Такие вещи возникают, как правило, параллельно в разных культурах. Во всяком случае, и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в России авангард дал знать о себе почти одновременно.
- И значит, теперь авангард тоже сразу во многих местах?
- Думаю, что сходные процессы можно наблюдать и в других странах.
- Скажите, я верно понимаю, что авангард приходит тогда, когда старое уже никуда не годится?
- Это немного резко сказано, милая моя, но, конечно же, авангард как явление социальное напрямую связан с кризисным состоянием общества.
- Но если сейчас весь мир переживает кризис, тогда что же мы празднуем?
Стойка живописца, описанная выше, сделалась нужна только с появлением холста. Прежде в свободном шаге не было необходимости. Только в общении с холстом художник приобрел осанку фехтовальщика. Связано это с тем, что неожиданно художник остался перед миром один: исчез предмет ремесленного труда (доска, стена, камень), защищающий его от мира и предполагающий строгую позу ремесленника; а холст - не вполне предмет: это лишь занавес, скрывающий - или приоткрывающий - бесконечное пространство. Работая с ним, художник сосредоточен не на его поверхности, а на том, что грезится сквозь нее, на том, что является за зыбкими колебаниями материи. Он может отдаться фантазии; оттого он и ходит по мастерской так легко и быстро, словно шаг к холсту проведет его сквозь картину - в неизвестную даль. Вовсе не случайно холст напоминает парус корабля, а иные художники даже писали картины на парусине. Мольберт - точно мачта с реями, и когда холст воздвигается над ним и белый прямоугольник его трепещет в воздухе, ощущаешь томление, точно при виде отплывающего корабля; скрип рангоута и лееров слышится в скрипе подрамника.
До того как появился холст, изображение наносили на незыблемые поверхности. Доска, покрытая левкасом, и стена, приготовленная под фреску, требуют смирения. Материал не терпит переделок, художник должен склониться перед ним. Иконописец сидит, согнувшись перед доской, мастер, выполняющий фреску, неподвижен на лесах - он не расхаживает с палитрой по мастерской. Изображение, нанесенное на твердую поверхность, всегда определенно - даже дух святой имеет строгую форму, даже сияние вокруг головы имеет четкие очертания. Соответственно и постановка руки - и всего тела - рисующего должна быть раз и навсегда определенной. Твердая поверхность не знает неизвестной дали - все, что удалено на картине, столь же внятно и ясно, как и то, что вблизи. Иное дело вибрирующий, дрожащий холст, прогибающийся под рукой, провисающий под холодным ветром, натягивающийся до звона в жару. Холст трепещет, как флаг, наполняется воздухом, как парус. Художник управляет им, точно матрос парусом, - направляя холст через дали и расстояния. Художник стоит перед холстом, точно воин у знамени: холст символизирует славу и дерзание, - и точно шпагой салютует ему художник своей кистью.
Живопись масляными красками на холсте доминировала в мире недолго - с XV по XX век, всего пятьсот лет. Ни резчики по дереву, ни мастера икон и средневековых фресок не знали той свободной позы, какая появилась в мастерских Возрождения, не знали осанки Тициана и Леонардо, поступи Веласкеса, расправленных плеч Рембрандта. Карл V нагибался, чтобы поднять оброненную Тицианом кисть; Леонардо описывал преимущества живописца перед ремесленниками скульптором, зодчим, ювелиром: живописец не унижен трудом. Свободная поступь художника, та, что увековечена Веласкесом в «Менинах», орнанским мастером в картине «Доброе утро, Курбе», Ван Гогом в его стремительной картине «На работу», - эта свободная поступь исчезнет, когда холст - как материал, присущий эстетике Ренессанса, - уйдет в прошлое. Картину вытеснит иная форма деятельности, соответственно изменится и поза художника. Человеку, именующему себя художником сегодня, случается подолгу застывать в какой-либо неудобной и смешной позе, если он производит то, что называется «перформансом». Нередко от него требуется унизить себя, чтобы развлечь публику: например, раздеться донага, встать на четвереньки, прыгать на одной ноге. Искусство ушло от неведомого, парус спущен, корабль достиг гавани. Творчество вернулось к предмету - теперь таким предметом стала не стена и не доска, а сам автор: он должен сделать свое собственное существо забавным, чтобы обратить на себя внимание.
Нужда в горделивой позе художника быстро пройдет, и она легко будет заменена позой лакея или официанта.
Глава вторая
ПРИЗРАК РЕВОЛЮЦИИ
I
Струев некоторое время лежал с открытыми глазами, приглядываясь к незнакомой комнате. Так бывало с ним часто: он просыпался в чужом доме, лежал неподвижно, вспоминая, где был вчера и как оказался здесь. Так Струев придумал свой первый перформанс «Утро в чужом доме»: человек просыпается в выставочном зале, привычным жестом находит очки и часы, оглядывается и не сразу понимает, что он - экспонат. Понимает он это лишь тогда, когда находит у себя на руке бирку с ценой и печатью магазина.
И сегодня было как обычно: он полежал, оглядываясь, соображая, где находится, потом откинул одеяло и встал. Алина Багратион, спавшая ничком, так что ее крупные груди расплющились и высовывались по обе стороны тела, пошевелилась и перевернулась на бок, но не проснулась. Струев поднял с пола мятые брюки и один носок и посмотрел по сторонам в поисках второго. Вечно я теряю носки, подумал Струев. И в самом деле, процедура снятия носков унижает мужчину, стараешься проделать это стремительно, сдергиваешь их вместе с башмаками, одним движением, и швыряешь в сторону, они и заваливаются куда-нибудь. Он не нашел второго носка, но, что хуже, не нашел трусов. Они где-то в постели, решил Струев, надел брюки на голое тело, ботинки на босу ногу и сунул единственный носок в карман. В кармане же он обнаружил часы и порадовался своей предусмотрительности - не на пол бросил, не под подушку положил, а в карман спрятал, молодец, хоть чему-то жизнь научила. Он снял со стула рубашку, набросил на плечи, подошел к окну. Было позднее утро.
Если бы Семен Струев к неполным сорока годам не разучился испытывать то, что за неимением более точных слов называют стыдом, он бы это чувство испытал сейчас. Так себя обычно чувствуют мужчины наутро после ночи в случайном доме, в обществе случайной женщины. Обыкновенно им хочется поскорее уйти прочь, скрыться, в груди у них собирается горячий комок раскаяния, им непременно становится тревожно за домашних, словно в ту самую минуту, пока они предавались удовольствиям - да еще и разобраться надо, удовольствия ли то были, - с их домашними приключилась беда. Если бы страдающие от раскаяния обладали способностью спокойно анализировать чувства, они бы, скорее всего, пришли к выводу, что домашние их мирно спали, а если кому и пришлось нелегко прошлой ночью, то как раз им самим; но разве кто из грешников способен на такой бездушный анализ? Напротив, наутро после грехопадения душа особенно восприимчива к самым незначительным нюансам чувств и отвергает логику.