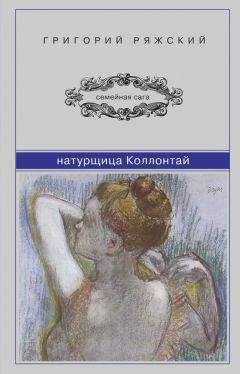А к началу зимы всё ж победил маму. Ушёл из дому, а обратно вернулся уже полноценным работником, с выписанной трудовой книжкой, которую там же и положили в кадры по месту его новой работы. Знаешь, кем стал? Ты удивишься страшно, как и я, сначала просто обалдела от этого.
Натурщиком.
Теперь его будут рисовать, голого. Ну, не совершенно обнажённого, а мешочек станут надевать специальный на причинное место, на верёвочках сзади, так он мне объяснил. Будет он сидеть неподвижно, замерев совершенно, по несколько часов подряд, а они его будут рисовать, писать и лепить, студенты разные и ученики, включая девушек и женщин. А профессор будет командовать процессом обучения рисунка, лепки и письма красками. Сказал, всё в ход пойдёт у него, то есть для него: карандаш, уголь, акварель, масло, пластилин и забыла что ещё остальное.
Мама, когда с галошки вернулась и узнала, что он с собой натворил, кинулась разубеждать и плакать, по-настоящему, без промежуточных соплей, сразу навзрыд.
Кричит:
— Как же так, Павличек! Голый, без ничего! Перед людьми, перед чужими! Да с обрубками своими напоказ! Это ж позор и несчастье всем нам! На кой чёрт нам твои копейки эти! Проживём без них, раньше жили и теперь не умрём. Надо будет, заработаю сколько требуется, только не позорься, прошу тебя, умоляю, не ходи на обозренье это ужасное, не выставляй душу свою насмешникам этим рисовальным! Это ж работа для проститутки, неблагодарная, грязная, совестью навыворот! А ты мужик, фронтовик, орденоносец!
Ну насчёт ордена это мама то ли ошиблась, то ли то сознательно приукрасила, чтобы результат иметь повесомей от криков своих. А медалька за бои по освобождению Праги была.
И есть.
Знаешь, что он ответил? Тоже безо всяких соплей и дурацких переживаний.
Говорит:
— Даже на самом высоком троне всё равно не совесть сидит, а жопа. А проститутку в этом деле поминать, так это что таксёра с лесовозным прицепом в один ряд ставить.
Вот так.
И больше не произнёс ни слова, ушёл за шкаф, в келью свою, и там протезом об паркет грохнул.
А на другой день со мной поделился, как взяли его на работу эту. Как раз за ту самую медальку и за то, что воевал с немцами. Сначала ни в какую не хотели, отсылали обратно, говорили, что даже полставки не потянет, потому что не хватает у него анатомических рисовальных органов. Потом засомневались ещё, как станет он держать позу, когда нужно не только равновесие сохранять, а ещё и группы мышц одновременно напрягать до нужной бугристости. И потом: скрещенные руки — мимо, нога на ногу — туда же. Остаётся разве что со спины мало чего и сбоку, в усечённом варианте, для разгона, а не для диплома или выставки, например. А Паша послушал-послушал и одежду с себя стаскивать начал. Они — обратно на него затаскивать, да только он так посмотрел на кадровиков этих, что те назад руки свои от него отняли.
А он оголился до конца, позу самую невыгодную принял, чтобы казалось, что вот-вот завалится, и замер.
Насмерть, насовсем.
И глазами сделал, чтобы не мешали, а следили за его телом любым путём, каким сами захотят. Столько, сколько потребуется для любой проверки недвижимости и мастерства. Он и перчатку деревянную свою тоже скинул, чтобы сильней впечатление произвести на сомневающихся. Две култышки и всё остальное: нормальное, фронтовое, геройское, мужское, выстраданное.
Они прождали часа два с половиной, чаю успели попить, дела кой-какие свои переделать, а начальник их так даже будильник завёл и прозвонил во всю силу, сзади, неподалёку от Паши.
А только Паша не пошелохнулся даже ни на звук, ни на взгляд, ни на отказные разговоры.
И тут профессор заходит к ним с факультета скульптуры, старый работник, довоенный ещё. И узнаёт Пашу. И наскакивает на него обниматься, на голого. Он его студентом был, Паша наш, дипломником когда-то.
Ну выяснил профессор этот, в чём загвоздка, и выговорил этим, из кадров. Сволочи вы, говорит, последние, а не сотрудники художественного заведения. Перед вами, если б не война, сейчас в этой позе унижался бы вероятный гений, великий талант, большой художник. А вы ему про руку да про ногу, да к тому же за копейки эти несчастные. Немедленно пойду докладную писать на вас, негодяи, ректору самому. Как это можно, героя-фронтовика не взять на ничтожную вашу ставку, да ещё заставлять его эти позорные проверки проходить.
Короче, бабушка, слово за слово, но тут же заявление подмахнули ему и в штат натурщиков зачислили, без никаких.
Называется теперь Паша наш «демонстратор пластических поз».
А мама дня три поплакала, не при нём, правда, — в уборную ходила и с мусором на двор, а потом смирилась. Поняла, что тут она воли Пашиной не перешибёт, хотя мне всегда казалось, что она сильней его как личность. Только теперь я так не думаю. Она не очень личность по сравнению с Пашей, она слабая и не особо умная, мама моя, хотя именно её в жёны себе твой сын выбрал, мой покойный отец, а не дипломатическую какую-нибудь фифу из посольских или представительских.
Но я её всё равно люблю, такую, какая есть, несчастную и даже глупую. Любую.
Наверно.
Шуринька! Я всё это тебе рассказываю, потому что хочу, чтобы ты знала — у нас сложилась очень приличная семья, с которой ты, к моему большущему сожалению, совсем не знакома в полном её составе. Главное дело — со мной, твоей Шуранькой. Честно говоря, я не могу взять в толк, почему наши дорожки всё никак не переплетутся между собой. Мама считает, что адреса твои раньше были ошибочные и поэтому письма не попадали тебе в руки. Но тогда почему же они назад тоже не вернулись, как положено им возвращаться по закону? Я была на почте, они мне объяснили, что такого не бывает, чтобы так часто терялась корреспонденция. В то, что ты читаешь мои письма и не хочешь мне на них отвечать, я тоже никогда не поверю, как бы меня и кто в этом ни убеждал.
Я на этот раз приложу свою фотку, недавнюю, с первомайского праздника, который начался во дворе нашей школы, а потом переместился на ул. Горького. Я там себе более-менее нравлюсь, хотя часто бывает, что я выгляжу лучше, особенно когда снимок сделан фотоаппаратом ФЭД.
У тебя такой есть?
А у меня нет, и я тщательно скрываю это от ребят. Они думают, что нет такого вообще, чего у меня не может не быть, если я это захочу иметь, потому что у меня есть ты, знаменитая на весь Советский Союз и на весь остальной мир без войны бабушка.
И получается, что самого Иосифа Виссарионовича через почту легче найти, чем тебя. У нас в доме напротив — помнишь, говорила про него? — один написал Сталину письмо, напрямую, без особенно точного адреса, в том году, и оно дошло. Это мне дядя Филимон, помню, говорил ещё. А ему в том доме все всё почему-то рассказывают. В общем, один жилец написал про другого проживающего, как он слышал от него шутку, что любимый архитектор Сталина это Растрелли. Через два или три дня уже приехали из органов за тем жильцом, который глупо так пошутил. А самого отправителя потом тоже наказали, выселили из Москвы или даже посадили в тюрьму за то, что про письмо своё растрезвонил по округе, а не отправил анонимно, как положено. И случайные читатели могли, мол, с этой глупостью ознакомиться — как-то так, в общем. И теперь в его квартире проживает какой-то дипломат с большой буквы, с семьёй, но без детей.
Видишь? А ты говоришь, почта ошибается!
На этом месте снова начинаю обниматься с тобой и прижимаюсь к тебе долго и крепко, как к самой родной бабушке нашей советской земли. Мама сказала, что на этот раз всё проверит-перепроверит самолично, чтобы адрес был самый правильный из всех тех адресов, куда посылали.
Любящая тебя и не забывающая при любых обстоятельствах жизни внучка,
Шуранька Коллонтай.
Паскриптум. А ты помнишь, что в этом году мне паспорт получать? Очень хочу, чтобы не забыла.
Бабушка, Шуринька, бабулечка, это опять пишу тебе я, твоя Шуранька, если ты ещё помнишь, что я у тебя есть на этом свете.
Не знаю, что и думать, потому что всё это время почти каждый день я надеялась и ждала, что уже вот-вот — и почтальон наш бросит в ящик приятную для меня весточку про твою жизнь и про твоё самочувствие.
Мы тут с мамой подсчитали, и получается, что тебе в этом году 78. Не знаю, правда, «уже» 78 или только «всего ещё» 78. С одной стороны, это немалое количество лет, конечно, и некоторых людей к этому возрасту уже давно нет в живых. Но если посмотреть на это по-другому, с исторической точки зрения, то для тех событий, в которых ты участвовала сама по себе, даже без помощи кого-либо из соратников, а только в силу твоей необыкновенной натуры и твоего выдающегося ума, такие твои года могут считаться не к закату, а приближающимися только к середине знаменитой жизни. Наверное, я неловко как-то обозначила свою мысль, но просто мне хочется, чтобы ты жила как можно дольше, и тогда, наверно, ты сумеешь собраться с силами и преодолеть сомнения насчёт того, что я это пишу тебе свои письма или не я.