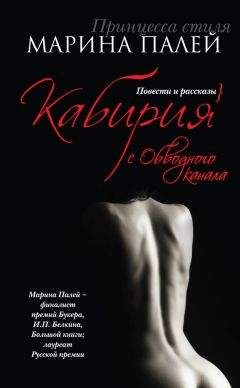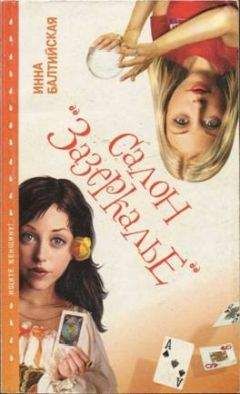Человек сидит на высоком стуле, в его живот воткнут водопроводный шланг, из шланга хлещет в помойное ведро. Глаза, отдельно от живота и шланга, смотрят сверху, как эта беглая влага, бывшая в составе частей земли, потом его тела, уходит, возвращается в землю, принося бывшему владельцу краткое, короче боли, облегчение и наперед обживая для него новую, хорошо забытую старую, среду обитания. Голоса птиц, тайным образом связанные с пятнами света в лиственной чаще, запах рыбы и реки, синий вскрик васильков, стихи, растворенные в крови, взгляд женщины, навсегда пахнущей мокрой черемухой, и, наконец, этот микеланджеловский росчерк молнии, дающий мгновенный урок относительности величин – и абсолюта величия, – все это человек впитал, вобрал в плоть, сделал собой, – но в небе споткнулась звезда, и ей откликнулась в человечьем теле внезапно сломанная клетка – одна звезда из мириад звезд, одна клетка из миллиардов, – и вот жизнь вытекает из тела болотистой жижей, ее не удержать, не унять, да и не надо удерживать. То, что было словом и светом, звалось человеком, перетекает нынче в помойное ведро. Так что же принадлежит человеку лично? Может быть, ведро, шланг?
Санитарка уносит шланг и ведро.
Раймонда выписалась из больницы имени Куйбышева, новенькая, нараспашку готовая к новой счастливой жизни. Две недели она провела очень бурно, а за это время Глеб вышел попить брусничного кваску и пропал навсегда. В качестве рабочей гипотезы приняли ту, в которой говорилось, что кукловод Гертруда Борисовна, левой рукой подсунувшая Моньке какого-то женатого хмыря, правой подвела Глеба к самой дверной щелочке, чтобы он (тетка учла его слабое зрение) мог наблюдать акт любовной измены с удобного для себя расстояния. А может, зрение у него было уж настолько неважнецким, что он совершенно самостоятельно принял какой-то замызганный бутылочный осколок за брильянт чистой воды, а Раймонду наконец «оставил в покое», как того страстно желала Гертруда Борисовна.
Так или иначе, через две недели после выписки, в день своего рождения, Монька заглянула сначала в ту мороженицу на Обводном, где с четырнадцати лет, приплясывая, начала свою трудовую деятельность, а потом конечно, хорошо посидела в родимом баре, из которого к тому времени исчез сыр и даже ириски и который превратился, по сути, в обычную распивочную, – от прошлого остались лишь дымный сумрак, серебристый шар в углу да американистые звезды. (Ну и что? – плевать.) Там Моньку, конечно, помнили и приветствовали как королеву. Оттуда ее увезли на «Скорой». Это был день ее сорокалетия.
Когда я зашла к ней в палату, там стоял гвалт, как в курятнике.
– А я вот, как мой помер, никому свою пизду не давала!! – надрывалась на судне старуха с зеленоватыми ляжками. – Ну и куда ее теперь?! Чертям на колпак?!
Раймонда, со свеженакрашенными ярко-морковными губами, лежала у окна и, глядя в маленькое зеркало, придирчиво поправляла челочку. Руки-ноги ее были сплошь исколоты; синяки сугубо больничного происхождения почти не отличались от супружеских. В подключичную вену ей вводили катетер, там серел пластырь. Живот (она мне показала) тоже был весь исколот. На ней не просматривалось живого местечка.
Процедуры ей надоели не так однообразием, как третьестепенностью, которая посягала на первый план. На первом плане были переживания иного рода:
– Он мне не говорил «я тебя люблю». Он ни разу таких слов не сказал. Но вот мы легли, он сначала не мог, устал, а я погладила – и все получилось. Как думаешь, он меня любит? Он говорил: «Ты мне дорога€».
Я мельком видала этого типа с чертами алкогольного вырождения, вертлявой фигуркой и долгим уголовным прошлым. Он навестил Раймонду в этой больнице месяц назад – и больше не давал о себе знать. Наверное, в уголовном мире у него были свои обязательства. Гертруда Борисовна, красиво делая большие глаза, рассказывала всем, что он отсидел за убийство. Раймонда, не отрицающая этого факта, бросала ей в лицо, что это чистая случайность и что он – только он, больше никто из вас всех! – вылитый, вылитый ангел.
Ангела звали Федя Иванов. В каком таком раю Раймонда на него наскочила и, главное, когда она это успела, не ведал никто. На убивца он тянул не очень, плюгавой вертлявостью напоминая скорей карманника из мелких. Раймонда выплакала по нем все глаза (этот клин, похоже, напрочь вышиб Глеба), и медсестры, ставившие ее всем в пример за невиданную терпеливость к физической боли, знавшие о Моньке все-перевсе, называвшие ее Раймондочкой, истощили свои советы и расстраивались за компанию.
У Гертруды Борисовны не хватало духу сознаться самой себе, что смена основных спутников дочери имеет ту же направленность и, очевидно, подчинена тому же самому закону, какой регулирует замены в семейной жизни сына (закону, к которому она имела отношение, конечно, лишь отчасти!). В случае же с Федей она и вовсе была чиста, а потому могла прорабатывать Раймонду с незамутненной совестью.
Проработки эти велись по телефону, потому что тетка, панически избегающая учреждений, имеющих, как ни крути, отношение к смерти, то есть поликлиник, больниц и даже роддомов (мудро прозревая общую кровеносную систему созидания и разрушения), не делала исключения и для больницы имени Нахимсона. Когда на больничную койку угождал кто-нибудь из ближайшей родни – старики-родители, супруг, сын Корнелий, – она интенсивней обычного принималась обзванивать оставшихся на воле и в относительном здравии, чтобы тут же, с ходу, не дав абоненту вякнуть «Алё», великолепно артикулируя, доложить, что «имела еще ту ноч ь» (с ударением на «ту»), что перед глазами прыгают белые зайчики, а моча опять какого-то не свойственного ей цвета – даже не входящего в природный спектр, можете мне верить! Иными словами, Раймонда, то и дело нарушая строгий постельный режим, кошкой прошмыгивала на лестничную площадку, где у телефона-автомата, всякий раз надеясь на другое, кое-как выслушивала родительское наставление, долженствующее, видимо, компенсировать родительское отсутствие.
Родительницу Раймонда ненавидела. Но в больнице было так уж невесело без Феди, а он исчез, и Раймонда все думала, что, быть может, он позвонит Гертруде Борисовне. Родительницу она всегда называла именно так – по имени-отчеству, со всем ехидством, на которое только была способна, и рада была бы не слышать про нее вовсе, но больничные впечатления, даже для терпеливой Раймонды, были из такого тошнотворного ряда, что про переезд Гертруды Борисовны с видом на Исаакиевский собор она слушала разинув рот, то и дело прося новых подробностей.
– Во блядь! – вскрикивала она восхищенно. – А дальше что было?
Удивить Раймонду я не могла: все шло по обычному сценарию. Но ей интересен был сам процесс говорения, соучастие, и она очень остро чувствовала смешное.
– А у меня тут тоже, знаешь... анекдот. Пошли мы ночью с Танькой – ну ты видела, ходит тут из восьмой палаты, – пошли, значит, на черную лестницу покурить... Только ты никому!! Поняла? И вот, значит, выходим мы на черную лестницу, а там тьма – мать честная! Мы – на ощупь... Чувствую: каталка. Дай, думаю, сяду... – Раймонда беззвучно хихикает в кулак, будто давится. – А там... Ой, чувствую, чего-то положено... – Она заходится в кашле, быстро сплевывая в платок кровавую мокроту.
– А там... Ой, не могу! – Раймонда хватается за живот. – Сейчас уписаюсь! А там – этот... – Она роняет лоб, заходясь беззвучным смехом.
– Покойник, что ли?
– Точно! Этот, жмурик. Мать честная! Я думала – у меня разрыв сердца будет! Я их боюсь – до смерти!!
Кто-то там, за белыми облаками, с аптекарскими весами, с золотыми часами, тот, кто точнехонько отпускает каждому из нас света и тьмы, снова доказал свое могущество и справедливость, демонстрируя равновесие устроенного им миропорядка. Короче говоря, на другой день, утром, с Раймондой случился обширный инфаркт легкого – а вечером явился душегубец Федя. Я пришла после Феди и о подробностях инфаркта (от боли Раймонда рванулась к распахнутому окну) узнала от медсестер. Для Раймонды вечернее впечатление совершенно перекрыло утреннее, затмило его – и уничтожило. Ее лицо сияло смущением, как это бывает с очень счастливыми, с отвыкшими от счастья.
– Ты карандаш мне для век принесла? – строго шевеля синими губами, спросила она вошедшую дочь.
– Одной ногой в могиле, а все бы ей веки мазать, – строго ответствовала дочь и протянула карандаш.
Раймонда, не мешкая, схватила его, тут же намуслила и, попеременно щурясь и таращась, принялась безжалостно очерчивать границы глаза.
Дочь вышла красивей Раймонды: высокая, холодная, голливудского образца кинодива, точней, исполненная безупречно стерильного очарования существ, сверкающих на этикетках колготок и мыла. Ей не перепало и капельки Монькиной удали; она постоянно мерзла, была трезва, мелочна, рассудительна, не способна к восторгам; боясь заразиться, она мыла руки по тридцати раз на дню и – за вычетом визгливого пафоса – во многом повторила характер своей бабки, которую презирала. На мать она, во всех смыслах, смотрела сверху вниз и была к ней брезгливо-снисходительна, раздражаясь только двумя ее особенностями: талантом без конца обмирать, кидаясь на всякую мужскую шею, и неспособностью одеться со вкусом. Она стыдилась матери и, знакомясь с молодыми людьми, всегда врала, что та заведует рестораном.