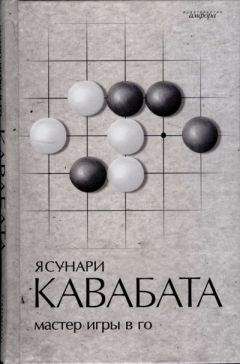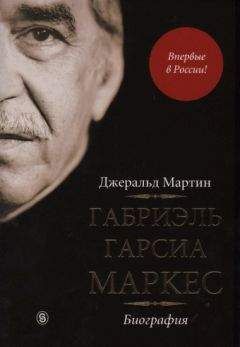Памятуя наставления хозяйки, я подошел к дому сзади, по параллельной улице, со стороны акведука, чтобы никто не увидел меня у дверей, выходящих в сад. Шофер предупредил: «Осторожно, почтенный, в этом доме убивают». Я ответил: «Если из-за любви, то пусть убивают». Во дворе было темно, но в окнах светилась жизнь, а в шести комнатах бурлила музыкальная мешанина. В моей, чуть громче, чем в других, звучал теплый голос дона Педро Варгаса, американского тенора, исполнявшего болеро Мигеля Матамороса. Я почувствовал, что сейчас умру. Дыхание перехватило, я толкнул дверь и увидел Дельгадину на постели такой, какой я все время вспоминал ее: обнаженная, она сладко спала на левом боку, на том, где сердце.
Прежде чем лечь, я выложил туалетные принадлежности, поставил новый вентилятор на место ржавого и повесил картину так, чтобы она могла видеть ее из постели. Потом лег рядом с ней и пядь за пядью узнал ее всю. Она была та самая, что ходила по моему дому: те же руки, которые в темноте ощупью узнавали меня, те же ноги, с такой мягкой поступью, что ее можно было спутать с кошачьей, тот же запах пота, что был на моих простынях, и палец, на который она надевала наперсток. Но вот что невероятно: та, которую я видел во плоти, которой касался рукой, казалась мне менее реальной, чем та, которая жила в моей памяти. «На стене, напротив тебя, картина, — сказал я ей. — Ее нарисовал Фигурита, мы его очень любили, это был лучший на свете танцовщик в борделях, человек такого доброго сердца, что жалел даже дьявола. Он нарисовал ее красками, какими красят суда, на отработавшем полотне с самолета, разбившегося в горах Сьерра Невада-де-Санта-Мария, и кистями, сделанными им самим из шерсти его собаки. Женщина, нарисованная на ней, — монахиня, которую он выкрал из монастыря и на которой женился. Я повесил картину там, пусть это будет первое, что ты увидишь, когда проснешься».
Она лежала все в той же позе, когда я погасил свет, в час ночи, и дыхание ее было таким тихим, что я даже пощупал пульс — убедиться, жива ли она. Кровь струилась по ее венам, как тихая песня, доходила до самых потаенных мест ее тела и возвращалась к сердцу, очищенная любовью.
В прошлый раз, перед уходом, я срисовал на бумагу линии ее руки и дал прочесть их Диве Сахиби, чтобы узнать душу девочки. И получилось: говорит она только то, что думает. Очень способна к ручным работам. Находится в контакте с умершим человеком, ожидая от него помощи, но напрасно: помощь, на которую она рассчитывает, — рядом. У нее не было связи, умрет она в солидном возрасте и в замужестве. Сейчас у нее есть мужчина, брюнет, но это не мужчина ее жизни. У нее может быть восемь детей, но она решится только на трех. В тридцать пять лет, если будет делать то, что ей подсказывает сердце, а не разум, в ее руках окажется много денег, а в сорок она получит наследство. Будет много путешествовать. У нее двойная жизнь и двойная судьба, и она может влиять на свою судьбу. Ей нравится пробовать все, из любопытства, но она будет раскаиваться, если не станет слушаться своего сердца.
В любовной горячке я привел в порядок разоренный грозою дом, а заодно починил и много разных вещей, до которых целые годы не доходили руки или на которые никогда не было денег. Я переставил книги в библиотеке в том порядке, в каком читал их когда-то. И наконец распростился с исторической реликвией, пианолой и более чем сотней валиков с записью классической музыки, и купил проигрыватель, не новый, но лучше того, что был у меня, с динамиками HiFi, от чего дом сразу приобрел некую величественность. Я оказался на грани полного разорения, но все искупало чудо: в свои годы я еще был жив.
Дом возрождался из пепла, а я купался в своей любви к Дельгадине, любви такой полной и счастливой, какой никогда раньше не знал. Благодаря ей я первый раз за девяносто лет жизни встретился лицом к лицу с самим собой. И обнаружил, что маниакальная страсть к тому, чтобы каждая вещь имела свое место, каждое дело — свое время, каждое слово— свой стиль, вовсе не была заслугой упорядоченного ума, но наоборот — придуманной мною системой для сокрытия беспорядочности моей натуры. Я обнаружил, что дисциплинированность — вовсе не мое достоинство, но всего лишь реакция на собственную бесшабашность; что я выгляжу щедрым, чтобы скрыть свою мелочность, что слыву осторожным, потому что таю зломыслие, что умиротворитель я не по натуре, а из боязни дать волю подавляемым порывам бешенства, и что пунктуален лишь затем, чтобы не знали, как мало я ценю чужое время. И наконец, я открыл, что любовь — вовсе не состояние души, но знак Зодиака.
Я стал другим. Я попытался перечитать классиков, которыми руководствовался в отрочестве, и не смог. Я погрузился в литературу романтиков, которую терпеть не мог, когда мать твердой рукой пыталась ее навязывать мне, а теперь именно благодаря ей понял, что необоримая сила, которая движет миром, вовсе не счастливая любовь, а любовь несчастная. А когда кризис поразил и мои музыкальные вкусы, я почувствовал себя старым и отсталым и открыл свое сердце радостям слепого случая.
Я спрашиваю себя, как мог я поддаться этому непрекращающемуся помрачению, которого так боялся и которое сам вызвал. Я витал в обманных облаках и сам с собой разговаривал перед зеркалом в тщетной надежде понять, кто я есть. Я был как в бреду, и однажды, увидев демонстрацию студентов, бросающих камни и бьющих бутылки, с трудом взял себя в руки, чтобы не пойти в первом ряду под транспарантом, который освятил бы мою правду: «Я сошел с ума от любви».
Образ спящей Дельгадины неотступно стоял передо мной, и я безо всякого умысла совершенно изменил характер моих воскресных заметок. О чем бы я ни писал теперь, я писал для нее, я смеялся и плакал для нее, и с каждым написанным мною словом уходила частичка моей жизни. Вместо привычной газетной манеры, в какой я писал всегда, я стал писать в виде любовных писем, так что каждый мог читать их как свои. Я предложил редакции не набирать текст типографским шрифтом, а публиковать их написанными от руки моим каллиграфическим почерком. Заведующий редакцией, конечно же, увидел в этом очередной приступ старческого тщеславия, но генеральный директор убедил его всего лишь одной фразой, которая сразу стала крылатой в редакции:
— Не заблуждайтесь: тихие сумасшедшие приближают будущее.
Публика откликнулась и восторженных незамедлительно множеством писем от влюбленных читателей. Некоторые письма даже читали по радио, как важные новости, в крайм-тайм, с них делали всевозможные копии на мимеографах или через копировальную бумагу и продавали, как контрабандные сигареты на углах улицы Сан Блас. С самого начала они были продиктованы страстным желанием выразить себя, я их писал от имени девяностолетнего человека, который не научился думать как старик. Интеллектуальная среда, по обычаю, повела себя ханжески. И даже графологи, от которых этого меньше всего ожидали, пустились в противоречивые рассуждения, основываясь на ошибочных заключениях связанных с моей каллиграфией. Именно они посеяли раздор в мыслях и настроениях, разожгли костер полемики и ввели моду на ностальгию.
Я договорился с Росой Кабаркас, что до конца года в комнате останется электрический вентилятор, туалетные принадлежности и все, что я еще сочту необходимым для жизни. Я приходил в десять и всегда приносил что-нибудь для девочки, или для нас обоих, и несколько минут занимался тем, что ставил декорации для театра наших ночей. А прежде чем уйти, всегда не позднее пяти утра, снова прятал все под замок. И спальня снова становилась убогой, какой она и была с самого начала, предназначенная для унылых любовей случайных клиентов. В одно прекрасное утро я услышал, что Маркое Перес, самый популярный голос на радио, решил читать мои воскресные заметки в понедельник в своем выпуске новостей. Преодолев брезгливость и испуг, я сказал: «Знаешь, Дельгадина, слава — это толстая сеньора, которая не спит с тобой, но когда просыпаешься, она стоит у постели и смотрит».
Как— то утром я остался позавтракать с Росой Кабаркас, казавшуюся мне уже не такой дряхлой развалиной, несмотря на ее глубокий траур и надвинутую на брови черную шляпку. Ее завтраки славились своим великолепием и обилием перца, от которого у меня катились слезы из глаз. Откусив первый же кусок живого огня, я изрек, обливаясь слезами: «Сегодня ночью у меня и без полнолуния будет гореть задница». — «Брось жаловаться, — сказала она. — Если задница горит, значит, она у тебя пока еще, слава Богу, есть».
Роса удивилась, когда я назвал Дельгадину. «Ее не так зовут», — сказала бандерша. «Не говори как, — перебил я ее, — для меня она — Дельгадина-Худышка». Та пожала плечами: «Ладно, какая разница, она — твоя, просто это имя мне кажется каким-то рахитичным». Я рассказал ей про слова о тигре, которые девочка написала на зеркале. «Не может такого быть, — удивилась женщина, — она не умеет ни читать, ни писать». — «В таком случае — кто же?» Роса пожала плечами: «Должно быть, кто-то, кто умер в этой комнате».