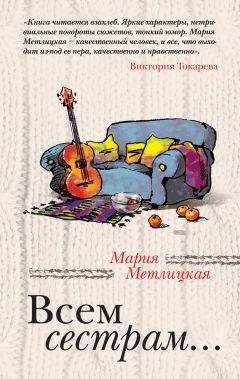Ознакомительная версия.
Дверь ей открыла низкая, полная, с невыразительным лицом женщина лет пятидесяти, в ситцевом несвежем халате. Молча кивнула:
– Проходи.
В квартире пахло вареной капустой. Аннушку опять замутило. На кухне сидел небритый мужчина в серой майке и трениках – ел яичницу со сковородки. С Аннушкой он не поздоровался. Женщина провела ее в комнату и вышла, бросив короткое: «Обожди».
Аннушка увидела кухонный стол, покрытый старым ватным малиновым одеялом, детскую кушетку у стены, пыльные, серые тюлевые шторы и старый полированный шкаф с полуоткрытой дверцей, висящей на одной петле. Она присела на кушетку и почувствовала, как ее бьет внутренняя дрожь невыносимой силы. Внезапно резко разболелась голова, и она стала тереть виски совершенно ледяными пальцами.
Женщина зашла минут через десять. Поверх все того же халата на ней был надет клеенчатый фартук, в руках она несла большую кастрюлю, в которой что-то позвякивало.
– Стели свою простыню, – кивнула она, – не ори, терпи молча, стены здесь как газета, хлипкие. Не бойся, я тридцать лет акушеркой в роддоме проработала, у меня таких, как ты, табуны прошли, – деловито рассказывала она. – Ну, ложись, чего телишься? Через час про все забудешь. В первый раз, что ли? – удивилась она Аннушкиной медлительности.
Та обреченно кивнула.
– В первый, да не в последний, – хохотнула хозяйка и прикрикнула: – Ну, пошевеливайся! Мне еще обед доваривать, и внук скоро из школы придет. Некогда мне тут с тобой канителиться.
Дрожащими и холодными руками Аннушка пыталась расстегнуть пуговицы на юбке. Пуговицы не поддавались.
– Ну! – грозно произнесла хозяйка. – Намудохаешься с вами.
Аннушка раскладывала на табуретке чулки, юбку и блузочку – аккуратно и медленно. Тянула время. Потом неловко забралась на шаткий стол и закрыла глаза. Звякнули инструменты, и женщина резко и больно развела ей ноги. «Инночка! Инночка! – пронеслось в Аннушкиной голове. – Боже мой, что я делаю!»
– Нет! – закричала она громко.
Женщина в испуге отпрыгнула. Аннушка соскочила со стола и стала лихорадочно натягивать юбку и чулки. Женщина с силой швырнула что-то металлическое обратно в кастрюлю и зло прошипела:
– Вали отсюда, истеричка чертова! Будешь еще в дверь колотиться – на порог не пущу.
Кое-как криво нацепив юбку и перекрученные чулки, Аннушка натянула кофту и бросилась к двери. Она никак не могла открыть замок – ей показалась, вечность. В коридор вышел хозяин. Грубо отпихнув Аннушку, он резко открыл дверь и толкнул ее в проем.
– Вали отсюда, сучка! – крикнул он и захлопнул дверь.
Аннушка опрометью сбежала вниз по лестнице, захлебываясь слезами, громко, в голос, с подвыванием. На улице она притормозила и поправила свою одежду. «Скорее, скорее от этого ужасного дома!» – дробью стучало у нее в голове.
Она пробежала несколько кварталов и, наконец выбившись из сил, почти упала на скамейку в каком-то дворе. Сидевшая на скамейке старушка в белом платочке посмотрела на нее с жалостью:
– Обидели тебя, дочка?
– Нет, бабушка, я сама во всем виновата, – всхлипывая, ответила Аннушка.
– Ой, сколько в жизни всего было, – вздохнула старушка, – а все прошло. И жизнь тоже, – добавила грустно она. – Перемелется все, доча, и не так страшно будет, как сейчас тебе кажется. Жизнь все по местам разложит – сама, без тебя. – Старушка опять тяжело вздохнула и замолчала.
Аннушка встала со скамейки и побрела домой. Дома она согрела себе чаю, легла на кровать, укрылась тяжелым зимним одеялом и – странно – уснула крепко, без сновидений, лишь слегка опасаясь следующего утра и абсолютно не понимая, как жить дальше.
А утром приехала жена брата Ниночка. Приехала, понимая, что скоро ей это будет не под силу, купить что-нибудь будущему малышу – в Брянске это было очень сложно, а в московском «Детском мире» нет-нет да и выбрасывали.
Нина выпила чаю, перевела дух и отправилась в «Детский мир» в надежде купить еще Максимке цигейковую шубку на зиму.
– Я на целый день, только бы выдержать, – говорила она.
Аннушка лежала, то проваливаясь в некрепкий сон, скорее дрему, то просыпаясь – голова была пустая, ни одной мысли.
Ниночка пришла вечером уставшая, замученная, но абсолютно счастливая – удалось достать и шубку на вырост, и сапожки, и ползунки для младенца, и чепчики. Счастливая, она перебирала все это богатство, возбужденно рассказывая Аннушке, что почем и сколько она за всем этим стояла. Аннушка взяла в руки белый чепец с тонкой полоской кружева по краю и вдруг разревелась, выплеснув разом всю свою боль и терзания. Ниночка испугалась и, ничего не понимая, принялась вокруг нее хлопотать. Тут Аннушка все рассказала золовке как на духу – и про Лару, и про Левушку, и про Алевтину, и про акушерку в Медведках. Нина обнимала ее и гладила по голове:
– Бедная ты моя, девочка, как же ты со всем этим одна? Господи, а если бы я не приехала? И какое счастье, что ты оттуда сбежала. Аня, ты ведь могла бы себе всю жизнь перекорежить, ну разве так можно? Спасибо этой Инночке покойной, это она тебя с небес остановила. Все, Анна, – решительно говорила Нина, – успокойся, от всех этих слез и страданий только ребеночку мученья. Будешь рожать – другого выхода нет. А Евгению Осиповну и Геру я беру на себя – ну не звери же они в конце концов, должны понять.
И опять причитала без конца:
– Девочка ты моя бедная, девочка бедная!
Нина пошла на кухню, пожарила картошки, открыла банку сайры и банку соленых огурцов, и две беременные сели пировать. В первый раз за много дней Аннушка поела с удовольствием и аппетитом.
Потом Ниночка поделила свои драгоценные покупки на две кучки:
– Это, Анюта, твоему будущему малышу.
Они вместе дружно поревели и обнялись, а потом легли спать – позади был очень тяжелый для обеих день.
А утром Аннушка проснулась почти счастливая, с твердой уверенностью, что у нее все наладится и, что самое главное, не надо принимать страшное и ужасное решение.
Ниночка уехала дневным поездом, взяв на себя разговор с мужем и свекровью, а Аннушка решила жить обычной жизнью, повседневными делами – поехала в институт, получила справку на распределение и отправилась в школу на Соколе – свое первое место работы.
Школа ей понравилась – старая, из темного кирпича, трехэтажная, она стояла в тихом месте, в поселке художников, окруженная старым яблоневым садом.
Директриса оказалась милая, пожилая женщина, принявшая ее вполне дружелюбно.
– Замуж не собираетесь? – лукаво спросила она Аннушку.
Аннушка смущенно пролепетала:
– Нет, нет, такого в планах не предвидится.
– Ох, милая моя, – вздохнула директриса, – это сегодня не предвидится, а завтра… Дело молодое, житейское. Потом и до декрета рукой подать. А мне до зарезу нужны молодые специалисты, трех сотрудников проводила на пенсию. Так что смотрите, не подведите, – улыбнулась она.
Аннушка молча вышла из кабинета директорши. Было невыносимо стыдно. «А что делать? Не устраиваться на работу? Значит, она не получит декретных. А как без этого выжить?» За всю жизнь ей не приходилось обманывать сразу столько хороших людей – маму, Германа, директрису. Настроение было хуже некуда.
Через два дня приехала мама. Зашла в комнату с плотно сжатыми губами и сведенными к переносице бровями. У Аннушки упало сердце – поняла сразу: мама все знает. Мама молча села на диван. Аннушка пролепетала:
– Сделать чаю?
Помолчав, мать глубоко вздохнула и сказала:
– Ладно, Аня, дело сделано, что обсуждать. Я сама виновата, бросила тебя, уехала к сыну. За тебя была спокойна, ты девочка разумная. А вот как вышло. Обе виноваты и расхлебывать будем вместе. Какой у тебя срок?
Елизавета Осиповна говорила обо всем спокойно, но было видно, что убита, раздавлена этой вестью и пытается справиться с собой.
– Что Гера? – пролепетала Аннушка.
– А что Гера? – удивилась мать. – У него своих забот полон рот, что ему до этого? Где он и где мы? В общем, будем жить. Жизнь, Анюта, не кончается.
На том и порешили.
А в квартире на Петровке меж тем текла жизнь и происходили перемены. К старухе Капустиной, например, приехала из деревни племянница Райка – тридцатилетняя вдовица. Райка была горластая, крутобокая, с большими некрасивыми руками. В деревне она работала телятницей. Но там не заладилось: муж напился и заснул с папиросой – сгорел вместе с домом. Жить стало негде. У родни дом полон под завязку: два брата с семьями, куча племянников, батя пьющий и тяжелый на руку и почти слепая мать. Со снохами Райка не ладила. На ферме работа была тяжелая, грязная. И решила она податься в Москву, вспомнив про отцову сестру.
Старуха Капустина ее приняла настороженно и без удовольствия. Но Райка ее убедила:
– Я тебе родня, ты старая, ходишь плохо, живешь на копейки. Я пойду торговать и тебя прокормлю. Буду стирать, щи варить, а ты меня пропиши. Ну что тебе, жалко? Все одно комнате пропадать, а в старости кто тебе в аптеку сбегает, портки постирает?
Ознакомительная версия.