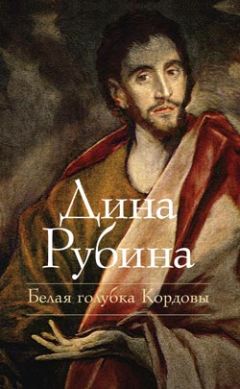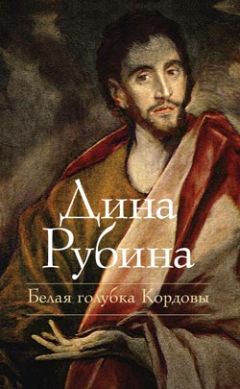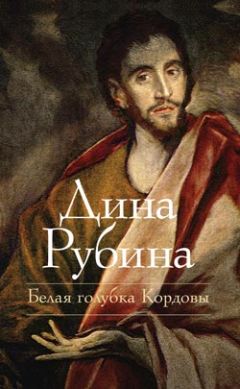«У вас такая о-ча-ровательная улыбка, Захарик…» Это десятки разнонаправленных действий, похожих на мельчайшие движения распяленной пятерни кукловода, с привязанными к каждому пальцу нитями, благодаря которым арлекин одновременно топает ножкой, вертит головой, бренчит на струнах гитары и раскрывает рот: картинку надо выцыганить так, чтобы адвокатица не уперлась каракатицей; временами звонить Морису, намекая, что нащупанный им, Кордовиным, неизвестный Фальк вот-вот попадет к нему в руки, и можно присматривать клиента… Наконец, долгая мучительно-сладостная работа над самой картиной, когда ты не то что погружен в манеру художника, не то что живешь ею, а просто становишься им, этим единственным мастером, с его единственным стилем, его взглядом на свет и предметы, в которых свет этот преломляется, способом держать кисть или мастихин, привычкой работать только в утренние или полуденные часы… – одним словом, когда ты, подобно Всевышнему из космогонической теории кабаллы, сжимаешься и умаляешься сам в себе, дабы освободить место рождению новой сущности…
Со двора донесся сдвоенный кошачий вопль.
Ага, Чико заявился – как это он безошибочно чует его приезды! – а по пути не отказал себе в развлечении задраться с каким-то прохожим господином.
Взбежав по ступенькам в первую комнату, он отодвинул засов и выглянул наружу.
Во дворе намечалось шикарное сражение: его Чико, матерый черный котище, стоял нос к носу с рыжим выскочкой; оба остервенело огуливали себя хвостами и взревывали – сиплым тенором и колоратурным сопрано – в малую терцию, забираясь в голосовом поединке все выше и выше, нагнетая истерическое напряжение, срываясь на визг. Оба противника дрожали от ненависти, и ни один не решался напасть.
Первым не выдержал эксперт международного класса.
– Дерись!!! – пронзительно крикнул он, присев и уперев ладони в колени. – Дерись, падла!!!
Оба кота, как по свистку судьи, взвыли, подпрыгнули и, сплетясь в воздухе, вместе рухнули на землю.
И еще минут пять они взлетали, сшибаясь и мерзко вопя под азартные крики: «Дери его!!! Рви его, гада!!!» – пока все не устали…
Наконец рыжий потрусил восвояси, утробно завывая и волоча разодранный хвост. Чико, шатаясь, прибрел к довольному хозяину.
– Ну, что, – спросил тот. – Что, разбойная твоя рожа? Понял, как достается победа?
Отворил дверь и впустил кота в дом.
Та комната, которую с полным правом можно было назвать кладовой, видимо, была известна коту досконально. Во всяком случае, он безошибочно нашел в углу пустую миску, и принялся мордой возить ее по каменному полу, пока хозяин доставал катышки сухого корма из большого бумажного мешка и наливал в другую миску воду.
Затем Чико разбирался с едой – не так уж чтоб судорожно чавкая от жадности, – все же по округе было много изобильных помоек, а Чико, похоже, собирал дань с окрестных котов, то есть был местным цыганским бароном.
Хозяин в это время варил себе кофе на плитке.
В холодильнике был обнаружен приятный сюрприз – забытая нераспечатанная пачка нарезки; и оба кота – один, сидя в кресле-качалке, другой, ошиваясь внизу, с опасностью угодить под мерно скрипучий бамбуковый обод, – недурно перекусили: когда еще дождешься того самолетного харча, рассудительно проговорил старший…
Он слегка сомлел от кофе и незаметно для себя самого задремал, все реже поскрипывая креслом и уже не чуя, как мягко вспрыгнул к нему на колени Чико, свернулся на фартуке и тоже затих…
Где-то в нижних дворах дурным заполошным голосом крикнул павлин, ему дружно ответили собаки, перебрасываясь лаем через заборы… Проехала машина, и снова все стихло – сюда не доносился шум дороги.
Еще минут через пять свет в комнате стал тускнеть, меркнуть… померк, сгустился дремотный сумрак, лишь из больших окон нижней залы, мастерской, бледным ручейком истекал уходящий день.
…Тогда вошла мама, кутаясь в накинутую на плечи веселую свою кофту – зеленую, с желтыми цветочками по вороту и подолу, – вышла из сумрака, подошла близко-близко, подула сыну на лоб, как всегда, когда будила, и позвала, тихонько смеясь:
– Забывака… забы-ва-а-ка…
Он проснулся, но глаза не открыл, безуспешно пытаясь удержать теплое дыхание с легким ароматом ее любимых тыквенных семечек и безалаберный смех…
Не было случая, чтоб она не напомнила ему о дате, если он забывал. Умница мама…
(Что с того, что у этой девки золотая голова, повторял с горечью дядя Сёма, если она шалава, шалава и есть!)
Сегодня была годовщина ее смерти.
Он согнал Чико с колен, поднялся и нащупал в шкафчике спички и толстую поминальную свечу. Медленно запалил ее в густых сумерках: как быстро все же темнеет здесь, в горах… Огонек пыхнул и встал, ровно-весело подрагивая, готовый держать вахту целые сутки.
И как всегда, безмятежный этот огонек занялся неукротимым пламенем того погребального костра в углу двора, где после маминой смерти они с дядей Сёмой жгли ее смертное ложе: все эти окровавленные простыни, подушки, покрывало… и взлетающие перья горели адским пламенем в причудливом растрепанном вихре огня, взметались и улетали ввысь… Как твоя жизнь, мама…
– Как вся ее жизнь, этой шалавы, шалавы! – крикнул дядя Сёма, и тогда он, мальчик, бросился на дядьку, сшиб его с ног, и они катались по земле и колотили друг друга, будто соперники, будто за живую дрались…
Он установил свечу на плоской медной тарелке – так она мирно догорит себе, в тишине оставленного дома.
Вот и всё, мама…
Оставалось последнее.
Он зажег настольную лампу, включил ноутбук, открыл почтовую программу… С минуту размышлял, машинально прислушиваясь к хищному шороху, с которым Чико инспектировал все углы кладовой.
Потом тряхнул головой, прогоняя дремоту, и быстро защелкал по клавишам:
«Дорогой Люк, я так рад, дружище, что ты отозвался и помнишь меня – ведь прошла чертова пропасть лет с тех пор, как я прислуживал тебе в славном чертовом портовом пабе – помнишь задрыгу Адель? Хотел бы знать, как ты поживаешь, коллекционируешь ли до сих пор монеты. Не могу забыть нашу с тобой великолепную сделку – с каким жарким блеском в глазах ты попросил у меня любую советскую монету. А у меня в кармане завалялись два пятака на метро. И когда я вытащил из кармана пятак – огромный и новенький, желтый – ни дать не взять золотой, – ты просто в ступор впал. Предложил за него 20 долларов. Признаюсь тебе, это была самая выгодная (в процентном отношении) сделка за всю мою жизнь. Если встретимся, обещаю привезти римскую монету императора Тита – это редкость, если не знаешь.
Пытаюсь представить, как ты сейчас выглядишь, и мысленно вижу матерого морского волка, хотя Стиви писал мне, что к морю ты отношения уже не имеешь, а наоборот, сухопутен, как старая калоша, и более того…» – он опустил руки, задумался… Вспомнил длинное темное помещение портового паба, свой фартук – просто широкое полотнище цвета хаки, обернутое вокруг талии, – стопку порножурналов, менять которые на свежие тоже входило в его обязанности. Задумчиво проиграл пальцами на губах, как на клавиатуре, несколько шведских ругательств… спохватился и продолжал: «…и более того: возглавляешь какое-то сыскное агентство».
Для этого письма он выбрал не английский, на котором Люк, конечно же, свободно и говорил и писал, а испанский, родной язык коротышки-латиноса. В том, что пройдоха Люк занимается в Штатах частным сыском, была своя логика: лет тринадцать назад этот странный парень знал все порты мира, всех девиц, живущих в округе, все вакансии на судах, курсы валют, погоду, нравы и странности каждого капитана… Одни с ним приятельствовали, другие считали осведомителем и предпочитали держаться подальше. В пабе он обычно брал себе порцию виски, которую бесконечно разбавлял содовой и сидел с ней весь вечер. Иногда, если присмотришься, становилось заметным, что он совсем трезв, и на ту или иную компанию бросает внимательные взгляды, прислушиваясь к разговорам.
А может, уже тогда он сотрудничал, скажем, с… Интерполом? или еще с какой-нибудь полицией или разведкой? Следует ли сейчас неосторожно обращаться к нему, раскрываясь пусть даже и на ничтожную малость?
Впрочем, думал он только минуту, и снова глухо защелкал:
«Решаюсь обратиться к тебе с просьбой – думаю, для тебя пустяковой. Много лет я безуспешно разыскиваю одного человека – возможно потому, что нерадиво ищу, а может, потому, что он очень не хочет найтись. Во всяком случае, я потерял надежду справиться с этим в одиночку. Недавно у меня возникло подозрение – пока не стану вдаваться в подробности, – что он обитает где-то во Флориде. Он русский, по профессии врач, сексопатолог, крупный коллекционер живописи и антиквариата, зовут его Аркадий Викторович Босота – если, конечно, его имя ему по-прежнему нравится. Год рождения – надеюсь, память не изменяет мне, – тридцать седьмой. Фотографий его у меня никогда и не было, и внешность описывать не стану: во-первых, прошло много лет с тех пор, как мы расстались, во-вторых, он из тех, кто по разным соображениям может и перекроить собственный профиль. Впрочем, вот: чрезвычайно высок (не подрубил же он себе ноги). Во времена моей молодости выглядел настоящим верзилой – где-то метр девяносто, если не более. Хотя, опять-таки, с годами мог усохнуть. Его нежелание светиться – от необходимости скрывать свою богатейшую коллекцию. Мне нужен только адрес, всего лишь адрес сего господина – лет пятнадцать назад мы недоговорили с ним по некоему, чертовски интересующему нас обоих вопросу, – скажем, об авторстве одной из гравюр Дюрера…»