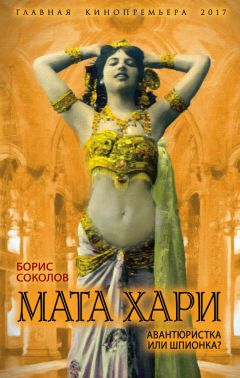Ознакомительная версия.
– Ты, камень, унеси все зло, причиненное моей душе и моему телу. От первого ужасного опыта и до сегодняшнего дня, когда я сближаюсь с богатыми мужчинами и позволяю им делать с собою все, что им угодно, а потом плачу в три ручья. И все это ради их связей, ради денег, ради нарядов и прочего тлена. Сама творю эти ужасы, сама же ими терзаюсь.
– Вы так несчастливы? – еще сильнее удивился Астрюк. Прокатились, называется, на побережье приятно провести время…
Я все швыряла и швыряла камни и никак не могла остановиться, и ярость, которая мной овладела, поразила меня саму. Завтрашний день больше не был завтрашним днем, и настоящее не было настоящим, и я словно провалилась в выкопанный мною колодец, и от каждого моего движения он становился все глубже. Вокруг прогуливались люди, играли дети, чайки выписывали в небе странные фигуры, а море было куда безмятежнее, чем мне бы хотелось.
– Ты, камень, лети в мой огород! Зачем я все время ищу приятия и уважения? Я ничего никому не должна. Зачем я теряю время, зачем хлопочу, зачем потом раскаиваюсь и погружаюсь во тьму, которая порабощает меня, приковывает меня к скале, отдает на поживу хищным птицам?
Мне никак не удавалось заплакать. Камни шлепались в воду, быть может, на дне они сложатся и воссоздадут Маргарету Зелле. Но я не хотела снова стать ею, той женщиной, которая заглянула в глаза жены Андреаса и ясно там прочитала, что наша судьба расписана наперед до мельчайших подробностей: нам надлежит родиться, выучиться, найти себе мужа, связать с ним жизнь – пусть даже он будет худшим человеком на земле, лишь бы окружающие не решили, что нас никто не хочет, что мы никому не нужны, – родить ему детей, состариться и провести остаток дней на стульчике у дома, глазея на прохожих, притворяясь, будто мы все в этой жизни поняли и знаем, и не умея заставить замолчать сердце, которое твердит: «Ты могла бы хотя бы попытаться жить иначе».
Над нами раздался истошный вопль чайки. Птица пролетела так близко, что Астрюк невольно вскинул руку, защищая глаза. Ее крики вернули меня к действительности, я снова была знаменитостью, уверенной в себе и своей красоте.
– Я хочу покончить со всем этим. Мне не нравится эта жизнь. Сколько еще лет я могу танцевать и давать представления?
Астрюк был честен.
– Лет пять.
– Значит, решено. С меня хватит.
Он взял меня за руку:
– Это никак невозможно. Есть подписанные договоры, мне придется платить неустойку. Кроме этого, вам как-то нужно зарабатывать себе на жизнь. Вы же не хотите кончить свои дни в гнусном клоповнике, вроде того, где жили до нашего знакомства?
– Хорошо, вначале я выполню условия договоров. Вы были добры ко мне, и я не хочу, чтобы вам пришлось расплачиваться за мои мании – величия… или ничтожности. И не тревожьтесь обо мне, с голода не умру.
И вдруг я начала рассказывать ему свою жизнь, рассказывать, не задумывась, взахлеб, выкладывать все, что я прятала в себе, пока лгала всему свету. Вдруг хлынули слезы. Встревоженный Астрюк стал спрашивать, что со мной, попросил успокоиться, но я все говорила и говорила, и больше он меня не прерывал, а слушал молча и сочувственно.
Я думала, что окончательно утону в черном колодце отчаянья, но вдруг оказалось, что, когда говоришь о своих ранах, – тех, что зарубцевались, и тех, что до сих пор кровоточат, – становишься сильнее. Теперь слезы лились не из глаз, а откуда-то из самого глубокого и темного уголка моего сердца, и, словно обретя собственный голос, рассказывали историю, которую я и сама не знала по-настоящему. И вот я уже была не в колодце, а плыла на плоту в непроглядной тьме, но где-то вдалеке, на горизонте, слабо брезжил свет маяка, готового вывести меня на сушу. Если позволит бурное море, если еще не слишком поздно.
Никогда прежде со мною не происходило ничего подобного. Я думала, что, заговорив о своих обидах, я только растравлю их еще сильней, но происходило обратное – омытые слезами язвы тотчас же затягивались.
Я то и дело бессильно колотила кулаками по гальке, руки были уже ссажены до крови, но я не чувствовала боли, потому что в этот момент я исцелялась. Я поняла, почему католики ходят к исповеди, зная, что священники такие же грешники, как они сами, если не хуже. Неважно, кто примет твою исповедь, важно открыть свою душу, чтобы солнечный свет и жар очистил ее, а дождевые воды – омыли. Именно это я делала теперь, рассказывая о себе мужчине, которого никак не могла считать близким. И именно поэтому я говорила с ним так свободно.
Очень нескоро, когда слезы иссякли, а рокот прибоя сумел успокоить меня, Астрюк дружески подхватил меня под руку и сказал, что надо поспешить, если мы хотим успеть на последний поезд в Париж. По дороге он делился со мною последними сплетнями из артистического мира – кто с кем спит, кого откуда выгнали.
Я хохотала и просила новых подробностей. Мой импресарио и впрямь оказался и мудр, и чуток, он знал, что история моей жизни излилась слезами, ушла в песок, где и пребудет вечно.
– Страна переживает лучшее время в своей истории. В каком году ты сюда приехала?
– Во время Всемирной выставки, Париж в те дни был куда провинциальнее, хотя мне, конечно, показалось, будто я очутилась в центре мира.
Послеполуденное солнце заглядывало в окно баснословно дорогого номера в «Отель Элизе». На столе было все, чем славится Франция: шампанское, абсент, шоколад, сыры и духи с ароматом свежесрезанных цветов. За окном виднелась башня, носящая теперь имя своего создателя Эйфеля.
Он поглядел на огромную железную конструкцию.
– Не для того возвели этот кошмар, чтобы он и после выставки тут торчал. Надеюсь, его разберут на части как можно быстрее.
Я могла бы ему возразить – просто, чтобы дать ему возможность привести свои аргументы и выйти из спора победителем. Но промолчала, а он продолжал говорить о Прекрасной эпохе. Объемы промышленного производства выросли втрое, на помощь крестьянину пришли машины, способные в одиночку выполнять работу десятерых сильных мужчин, магазины ломились от товаров, и – этому я была особенно рада – совершенно изменилась мода, так что у меня теперь был повод обновлять свой гардероб по меньшей мере дважды в год.
– Ты заметила – даже еда стала вкусней?
Еще бы мне не заметить: я начала заметно полнеть, и это мне совершенно не нравилось.
– Президент республики сказал мне, что количество велосипедов с трехсот семидесяти пяти тысяч в конце прошлого века увеличилось до трех миллионов! В дома провели газ и воду, люди получили возможность уезжать из города на выходные. Потребление кофе увеличилось вчетверо, и у пекарен больше не выстраиваются очереди за хлебом.
Да что же он на конференции, что ли?! Пожалуй, стоит зевнуть и вернуться к амплуа «дурочки».
Некогда военный министр, а ныне депутат Национальной ассамблеи Адольф Мессими поднялся с постели и стал надевать парадный мундир со всеми регалиями. Ему предстояла сегодня встреча с бывшими однополчанами, и он не мог появиться в офицерском собрании в штатском.
– У англичан, конечно, ужасный вкус, но в одном правы: они скромнее нас и на фронте носят свою жуткую бурую форму. Мы же считаем, что и умирать следует элегантно, и ходим в красных штанах и кепи, которые буквально кричат противнику: «Эй, я тут, цельтесь сюда! Вы что, не видите меня?»
Он засмеялся собственной шутке, и я, чтобы сделать ему приятное, подхватила. Потом начала одеваться. Я давно избавилась от иллюзий и надежд, что кто-нибудь полюбит меня такой, как я есть, и теперь вместе с данью восхищения и цветами спокойно принимала деньги – это была плата за мое умение притворяться. Я была уверена, что окончу дни мои, так и не познав любви, но не все ли равно? Любовь и власть стали для меня неразличимы.
Но я, конечно, не была настолько беспечна, чтобы дать заметить это еще кому-нибудь. Подойдя к Мессими, я звонко поцеловала его в щеку. Лицо его было наполовину скрыто усами – такими же, какие носил мой неудачник-муж.
Он положил на стол пухлый конверт, набитый банкнотами в тысячу франков.
– Прошу тебя понять меня правильно. Раз уж мы говорим о прогрессе, я думаю, что мы все должны способствовать ему. Я получаю много, а трачу куда меньше. Расценивай это как мой посильный вклад в стимулирование потребления.
Мессими снова засмеялся своей шутке – он искренне был убежден, что я в восторге от его наград, усов и дружбы с президентом, о которой он не забывал упомянуть при каждой встрече.
Если бы он понял, что все это было с моей стороны сплошным притворством, что любовь – по крайней мере моя любовь – не подчиняется никаким правилам, он непременно бросил бы меня, и я же осталась бы виновата. Он посещал меня не столько ради постельных забав: ему хотелось чувствовать себя любимым, как если бы страсть женщины могла пробудить в нем ощущение собственной неимоверной значимости.
Да, любовь и власть – это одно и то же, и не только для меня.
Ознакомительная версия.