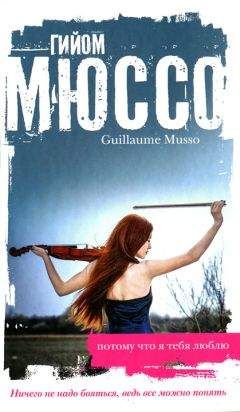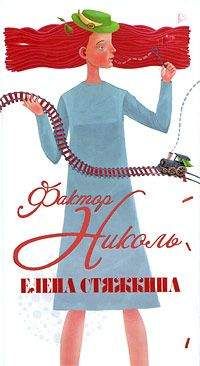Мы все здесь банда. А что делать?
В машине я выпила три «Смирноффа». Ты пьешь «Смирноффа»? Это вку-у-у-усно! И хорошо идет с травой. Или вы там не курите?
У нас не курят только дети и Алекс, но он всегда был нудный.
А во мне три «Смирноффа», а мальчик сидит рядом, и мы ржем. Спроси: «Чего вы ржали?» Я тебе не отвечу. А он, между прочим, не пил.
Моя перламутровая сумка упала на пол. Мы оба бросились ее поднимать. У Насти с Игорем большая машина jeep, но если двое ныряют на пол, то им становится тесно.
Кстати, никогда не могла понять, как американцы в таких нечеловеческих условиях лишаются девственности. Когда мы стукнулись лбами, я спросила мальчика именно об этом.
Олька, он тоже не понимает! Наш человек.
Я спросила у него, а как он лишился девственности, а он сказал: «Очень скучно. На кровати». И мы снова начали ржать…
Очень скучно… На кровати… Бедный ребенок…
Потом он нашел мою сумку – она укатилась под переднее сиденье – и взял ее в свои руки. Знаешь, как берут в руки судьбу?
Кстати, как ты думаешь, а что, рыба мойра названа по имени тех самых мойр, которые резали античным людям нить жизни?
Я сказала: «Отдай!» – и потянула сумку на себя. Он сказал: «Не отдам…» – и сильно сжал ее руками. Еще минута, и моя сумка была бы вся в синяках. Но я бросилась ее спасать.
Конечно, я зацепила его телесно. Локтем – его колено, пальцами правой руки – его левую ладонь, щекой – его плечо. Если честно, когда машина прыгнула на «лежачем полицейском», то я сама стала как этот «полицейский» и прилегла на него.
Он отпустил сумку, взял меня за плечи, осторожно тряхнул, посадил на место и взял меня за руку. Он еще выбирал перед этим, за что меня взять! Рассматривал меня частями и выбирал, мерзавец.
Представляешь, если бы он взял меня за грудь!!!
…И ничего бы не было. Потому что меня всегда брали за грудь, за ляжку, за жопу, если хочешь. И никогда, Олька, ты не поверишь, никогда – за руку.
Настя смотрела на нас в зеркало заднего вида. Он нахально улыбнулся и поцеловал мне большой палец. Самый непригодный для поцелуя, между прочим. А Настя не отводила взгляд. И мы могли попасть в аварию. А мальчик (с этого момента я даже не знаю, есть ли смысл называть его мальчиком) смотрел на нее так, как будто вызывал на ревность. Или правильно по-русски – взывал к ревности?
Я обиделась, вырвалась и выпила еще одного «Смирноффа». Он очень улучшил мне настроение.
В конце концов, решила я, выигрыш будет за мной. Я – мастер этого путешествия!!! Я знала, что получу от него все, что только можно. И останусь взрослой, стриженной, разочарованной и пустой как барабан.
Но он еще наплачется. Наплачется. Точно тебе говорю.
Точно тебе говорю, чтобы не орать в трубку: «Я влюбилась! Я влюбилась! Вяжите меня, если сможете».
Мы приехали в коттедж вечером. И он сразу показал мне облака.
Сколько мне осталось жить? Как ты думаешь, сколько я еще буду жить? Двадцать лет? Тридцать? Или до самой немощи – сорок?
Теперь всегда на облаках – где бы я ни была – у меня будет жить мальчик. И если его не будет рядом, облака поцелуют мой большой палец.
Ну не дура ли я?
Только не надо ничего про кризис среднего возраста, про водку, наркотики и рок-н-ролл. Попробуй поверить. Попробуй попробовать.
Он сказал: «Го, меня зовут Го. Маньчжоу Го».
Продолжение следует, Оль. Ой, как следует следует!..»
Это письмо было первым. И я не ответила на него. Хотя пионерская совесть подсказывала жуткую страшную отповедь с примерами из жизни, а особенно из литературы. Я хотела начать свой ответ так: «Окстись!» Но «окстись» не годилось для человека, который был воинствующим атеистом. Не годилось и другое начало: «Какой пример ты подаешь нашей Кристине, чужой Лене и сосланной на Кубу Тату?!»
Не годилось, потому что она, моя дорогая подруга, в тот момент подавала им еще не пример, а намек на мальчика и молодое дело могло взять верх… И их похожесть – Николь и ее дочери, Кристины, могла загнать в угол этого сердцееда Го. Кроме того, я ставила и на Настю, неизвестную мне подругу семьи, со взглядом заднего вида.
И вообще, моя пионерская совесть всегда замолкала. Всегда, когда видела россыпи драгоценных камушков, отражающих солнце. И ей, совести, было совершенно не важно – бриллианты или стекляшки. Все дело было в свете.
Свет делал меня молчаливой.
*
Вечером роженицу Зинченко должны были перевести из послеоперационной реанимации в отделение. Она была в сознании и счастье. Мальчик, три килограмма, пятьдесят сантиметров, приходил к ней знакомиться. Зинченко сказала, что мальчик, он же Федя, ей подмигнул. Потапов должен был, обязан был подумать о галлюцинациях, о нарастающем отеке мозга. Но не подумал.
К вечеру Зинченко внезапно стала тяжелой. Вызвали кардиохирурга, и он покачал головой: «Нет…»
Потапов должен был, обязан был согласиться. Но он не мог. Сказал: «Будем делать всё! Будем вытаскивать!» К восьми часам Зинченко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. И Потапов сказал ему: «Очень тебя прошу, дружище… Очень…» А аппарат угрюмо ответил: «Постараюсь…» И хмыкнул. Он не верил. Вошел в Зинченко и понял все сразу – уходит.
Но Потапов просил. И в глазах у него было отчаяние. А у Зинченко – счастье. И если бы они умерли тут же, в один момент, Потапов и его Зинченко, то еще неизвестно, кому бы было лучше.
Аппарат был новый, циничный. Но Потапова почему-то любил. Только случай Зинченко был безнадежный.
«Я скоро. Подержи ее», – попросил Никита Сергеевич.
Каждый день, вечером он заходил к отцу.
Потапов-старший был почетным президентом клиники. В его кабинете, на третьем этаже, рядом с кафедрой акушерства и гинекологии и административно-хозяйственной частью, росли три фикуса. Один – в кадке прямо у двери. Другой в углу, у дивана, третий – возле окна, за спиной у Сергея Никитича. Еще были фиалки. Фиалки выращивала Анна Семеновна и передавала через секретаршу только в цветущем виде. Она хотела, чтобы у мужа всегда были живые цветы. Тайной мечтой ее было извести фикусы. Она хотела, чтобы в один прекрасный день все они засохли и были выставлены в коридор…
«Фикус – цветок нашего мещанства!» – говорила Анна Семеновна. «И детства», – соглашался Потапов-старший.
В этот кабинет никто не ходил. Кроме делегаций из министерства и просителей из прошлой жизни.
– Ты не врач, – сказал Сергей Никитич, когда Потапов вошел в кабинет. – Ты не врач. Ты – шарлатан! Она не должна была рожать! Ей нельзя было рожать! Мы консилиум зачем собирали?! Чтобы запретить!!! А ты?! Она пятнадцать лет не беременела!!! Ты думаешь – это просто так?!! Кто позволил ей искусственное оплодотворение?!
– Она сама…
– Сама? – Сергей Никитич приподнял левую бровь. Анна Семеновна пыталась стричь ее ровненько, но один вихор, похожий на вопросительный знак, давно научился убегать от ножниц. Левая бровь у Сергея Никитича всегда была со значением. С выговором и занесением в личное дело. – У нас в клинике сами себе назначают, сами себе производят операции, сами себе рожают? Поздравляю!
– Не с чем. Она сама забеременела. Родила кесаревым. Сейчас тяжелая. Она умирает, папа, – сказал Потапов. – Может быть, пусть Федя побудет с ней в реанимации? Может, материнский долг ее вернет?
– Идиот… Еще и мерзавец. Только фашисты ставили впереди своих колонн женщин и детей, – брезгливо сказал Сергей Никитич. – Ты еще мне тут заплачь…
Фиалки вспыхнули розовым и закрыли глаза, отвернулись.
У Потаповых были принципиально разные позиции относительно курицы и яйца. Старший считал, что жизнь – больше чем дети больше чем роды, больше чем всё, потому что в жизни есть случай. А младший думал, что случай – это дар. И его нужно принимать по правилам. А значит, радостно. И дар, считал младший, может оказаться сильнее всего. И побороть дар невозможно. А пытаться – глупо.
Потапов-старший устал кричать, что главное – это быть живым. Потапов-младший не устал. Он не кричал. Он просто думал, глядя на фикусы, на зеленое сукно стола, на фотографии с Третьего съезда акушеров-гинекологов, что висели по стенам… Он думал, что главное – это постараться быть счастливым. И это гораздо труднее, чем быть живым. Тем более что для врача такое старание вообще никуда не пропишешь. Ни в статью, ни в учебник.