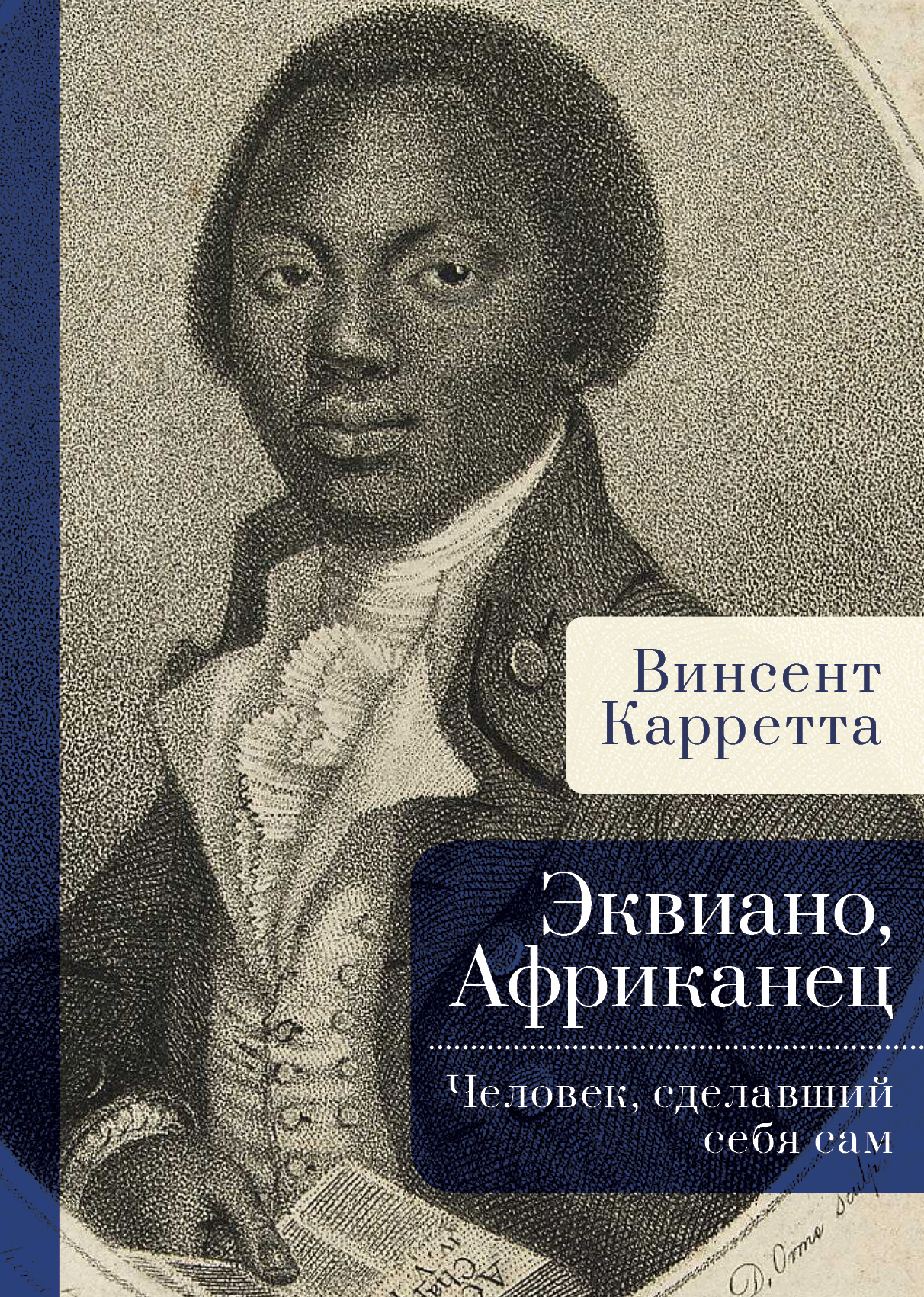Пока мама тяжело дышала в соседней комнате, Мария-Тереза, не торопясь, положила руку мне на грудь и стала молиться Матерям, Мами Уате и Деве Марии, Матери Божией, чтобы я прожила достаточно долго для того, чтобы увидеть все, что мне было суждено увидеть.
Мама прикрыла рукой рот, как будто сболтнула что-то, о чем не стоило говорить, как будто хотела схватить свои слова и засунуть их обратно внутрь, чтобы они скользнули вниз по ее глотке и растворились в желудке.
– Ты видишь? – спросила я.
– Вижу?
Я кивнула.
– Да, – ответила Мама.
Я хотела спросить ее: что ты видишь! Но не стала. Замолчала и ждала, пока она заговорит сама. Возможно, я боялась, что именно она расскажет мне, если я спрошу, что она видит, глядя на меня. Умру молодой? Не найду любовь? Или выживу, согбенная работой и тяготами? Состарюсь с горьким привкусом от того, что мне досталось на пиру жизни, на губах – горчицы и сырой хурмы, с остротой от несбывшейся мечты и утрат?
– Может быть, оно и у тебя есть, – сказала Мама.
– Правда? – спросила я.
– Думаю, это у человека в крови, как ил в речной воде. Накапливается на изгибах и поворотах, на подтопленных ветвях деревьев, – она помахала пальцами, – и всплывает через поколения. У моей мамы этого не было, но я слышала, как она однажды говорила, что у ее сестры, тети Розали, было. Что оно переходит от сестры к ребенку, к двоюродному. Чтобы быть заметнее. Чтобы его использовали. Обычно оно проявляется полностью с первыми месячными.
Мама нервно провела ногтем по губе, а затем постучала им по поверхности стола.
– Мария-Тереза и сама умела услышать. Могла посмотреть на женщину и услышать пение: если та была беременна, могла узнать, когда та родит, какого пола будет ребенок. Могла увидеть наперед беду и то, как та может ее избежать. Могла посмотреть на мужчину и увидеть сожженную самогоном печень и завяленные, как колбаса, внутренности, могла прочитать это в желтизне его глаз, дрожи его рук. И было еще кое-что. Она могла услышать множество голосов, звон которых исходил от любой живой вещи; она следовала за самыми громкими голосами, потому что они были самыми верными. Самые ясные голоса звучали над гамом остальных. Она услышала звук, исходивший от лица одной женщины в магазине: Флип ударил меня по лицу за танец с Седом. От человека, который владел магазином и у которого нога напевала: Кровь становится черной и застаивается, пальцы гниют. Как живот коровы сказал: Теленок пойдет копытами вперед. Она говорила, что услышала голоса впервые, достигнув половой зрелости. И когда она мне все это так объяснила, я поняла, что я тоже слышала голоса. В моей юности мама жаловалась на живот, говорила, что у нее язвы. И они шумели, говоря мне: Есть, есть, есть', я тогда ничего не понимала и все спрашивала ее, голодна ли она. Мария-Тереза обучила меня, научила меня всему, что знала сама, и когда я вышла замуж за твоего отца, это стало моей работой. Я занималась роженицами, лечила людей и делала мешочки с оберегами для защиты.
Мама потерла руки, как будто мыла их.
– Но нынче спрос невелик. За средствами ко мне приходят только старики.
– Ты могла бы принять ребенка? – спросила я.
Ее слова о мешочках с оберегами остались лежать необсужденными на столе между нами, обыденные, словно масленка или сахарница. Она моргнула, улыбнулась и кивнула головой, что все вместе могло означать лишь одно: да. В тот момент Мама стала для меня большим, чем просто матерью, больше, чем женщиной, которая заставляла меня молиться перед сном словами: Не забудь помолиться Матерям. Когда она мазала меня домашней мазью от сыпи или давала мне особый чай, когда я болела, – в этом было больше, чем простая материнская забота. Эта полуулыбка намекала на секреты ее жизни, на все то, чему она научилась, что говорила, видела и пережила, святых и духов, с которыми разговаривала, когда я была еще слишком мала, чтобы понимать ее молитвы. Полуулыбка сменилась хмуростью, когда в дверь вошел Гивен.
– Сын, сколько раз я должна просить тебя снимать свои грязные сапоги, когда ты заходишь в дом?
– Извини, Ма.
Он улыбнулся, наклонился, чтобы поцеловать ее, а затем встал и вышел, пятясь. Через москитную сетку он казался тенью, текуче вынимая ноги из своей обуви, наступая на пальцы ног.
– Твой брат даже не слышит то, что говорю ему я, не говоря уже о том, что поет мир. Но ты, может быть, услышишь. Если начнешь слышать – скажи мне, – сказала она.
Гивен присел на ступеньках, стуча обувью по доскам, чтобы сбить с них грязь.
– Леони, – говорит Па.
Я бы хотела, чтобы он называл меня иначе. Когда я была маленькой, он звал меня “девочка”. Когда мы кормили кур: Девочка, я же знаю, что ты можешь бросать кукурузу и подальше. Когда мы пропалывали огород и я жаловалась на боли в спине: Ты слишком молода, чтобы знать боль, девочка, с такой молодой спиной. Когда я приносила домой табель, в котором было больше отметок “А” и “В”, чем “С”: Ты умница, девочка. Он смеялся при этих словах, иногда просто улыбался, а иногда говорил это с серьезным лицом, но это никогда не звучало как упрек. Теперь он никогда не зовет меня никак кроме моего имени, и каждый раз, когда он его произносит, это похоже по звуку на шлепок. Я выбрасываю остатки торта Джоджо в мусорное ведро, а потом набираю в стакан воды из крана и пью, чтобы только не смотреть на Па. Чувствую, как моя челюсть дергается при каждом глотке.
– Понимаю, ты хочешь поступить правильно по отношению к мальчику и забрать Майкла. Ты ведь знаешь, что они посадят его в автобус, да?
– Он отец моих детей, Па. Я должна забрать его.
– А что насчет его мамы с папой? А если они тоже захотят встретить его?
Я не думала об этом. Ставлю пустой стакан в раковину и оставляю его там. Па ворчит на меня, когда я не мою за собой посуду, но обычно он ссорится со мной только по одному поводу за раз.
– Если бы они собирались его встретить, он бы сказал мне об этом. Он не сказал.
– Ты можешь подождать, пока он снова позвонит, а уж потом решать.
Я замечаю, что массирую загривок и останавливаю себя. Как же все болит.
– Нет, Па, я так не могу.
Па отступает от меня на шаг, смотрит вверх, на потолок кухни.
– Ты должна поговорить с мамой перед отъездом. Сказать ей, что уходишь.
– Что, все так серьезно?
Па сжимает спинку кухонного стула и рывком двигает стул на пару дюймов, поправляя, а затем замирает.
Дарованный-не-Дарованный оставался со мной на протяжении всей ночи у Мисти. Он даже пошел за мной до машины и забрался на пассажирское сиденье прямо сквозь дверь. Пока я выезжала с усыпанного гравием двора Мисти на улицу, Гивен смотрел прямо перед собой. На полпути домой, на одной из тех типичных темных двухполосных дорог, асфальт которых настолько изношен, что из-за шума колес машины начинает казаться, что едешь по грунтовке, я резко свернула, чтобы не сбить опоссума. Тот застыл и выгнул спину в свете фар, и я могла поклясться, что услышала его шипение. Когда давление в груди наконец спало и перестало ощущаться, как подушка с горячими шипами, я глянула обратно на пассажирское сиденье, но Дарованного там уже не было.
– Я должна поехать. Мы должны.
– Почему? – спрашивает Па.
Его слова звучат почти мягко. Беспокойство делает его голос на октаву ниже.
– Потому что мы – его семья, – говорю я.
Разряд пробегает от моих пальцев ног до живота и поднимается до самого затылка, словно отблеск того, что я чувствовала вчера вечером. А потом он исчезает, и я остаюсь без движения, в унынии. Уголки рта Па сжимаются, и он становится похожим на рыбу, которая борется с крючком, леской, с чем-то гораздо большим, чем он сам. А затем это проходит, он моргает и отводит взгляд.
– У него не одна семья, Леони. И у детей тоже, – говорит Па и уходит прочь, зовя Джоджо. – Мальчик, – подзывает он, – мальчик. Иди сюда.