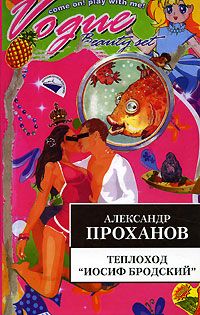Все поспешили на пристань. Дамы кутались в шали, спасаясь от ночного озерного ветра. Мужчины взирали на древнюю красоту куполов и шатров, кланялись встречавшим монахам, сыпали деньги в шапки калек и нищих. Предвкушали новые, ожидавшие их впечатления.
Есаул, не сомкнувший глаз, нетерпеливо смотрел на обитель. За стенами, удаленный от богомольцев и многолюдных служб, в тихой келье доживал свой век святой старец, схимник Евлампий, духовник Есаула.
Мимо торопилась сойти на берег мадам Стеклярусова, жеманно, на ходу, подкрашивая губки. Ее красавица дочь Луиза Кипчак уже с палубы строила глазки монахам, приподымала юбку, открывая стройную ножку. Добровольский, ступив на пристань, оказался в объятиях могучего игумена, чья кольчатая смоляная борода делала его похожим на Навуходоносора. Куприянов отвечал на поклоны монахов, которые клонились ему, словно перед ними был сам Патриарх. Посол Киршбоу, большой знаток русской старины, старался вдохнуть сладкий дым лампады, опускал стодолларовую бумажку в ладонь увечного. Словозайцев наивно и радостно улыбался богомольцам — наклонился и что-то ласково сказал молодой изможденной женщине с большим животом, который она заслоняла измученными руками, страшась за свое нерожденное чадо. Лысинка Жванецкого как всегда хихикала, слушая русский колокол. Шляпа Боярского выискивала среди паломников молодые женские лица. Усы Михалкова подошли под благословение к батюшке и картинно, истово целовали протянутый крест.
Среди сходящих на берег пассажиров Есаул увидел маленькую девочку, ту, что упросилась на теплоход с фольклорного праздника, когда крепостные крестьяне арт-критика Федора Ромера водили хоровод вокруг последней русской ракеты. Девочка среди ночных огней казалась хрупкой и нежной. На тонкой шее краснели стеклянные бусы. Голубой сарафанчик пузырился от озерного ветра. Лыковые лапоточки трогательно переступали по палубе.
— Дяденька, а мне можно на берег? Я к маме хочу, — спросила она Есаула.
— Не нужно, милая, потеряешься, — сказал Есаул. — На обратном пути мы тебя к маме доставим.
Мимо проходил капитан Яким.
— Капитан, отведите девочку в каюту и дайте ей клубничного мороженого и «сникерс». Пусть дитя спокойно уснет.
— Будет сделано, Василий Федорович.
Вслед за прочими Есаул вышел на пристань, когда уже служили молебен. Игумен, растворяя в густой бороде рокочущий зев, возглашал:
— Иже приплывающе по водам бескрайне, яко ковчег грядуще со многимы дарами и опресноками, бо нисходяще на стезю пречистых оумовения дивноприс-ных и откровение еси…
Есаул пытался вникнуть в рокоты древнего языка, в котором чудилась загадочная, недоступная разумению весть. Но смысл ускользал. Закопченные фонари в руках у братии с пылающими в стеклах свечами, кадила, в которых озерный ветер раздувал рубиновые угли, кружили голову. И он, закрыв глаза, внимал рокочущим песнопениям.
— И вознесохо от земель бренных и червь снедающий, або скрытен и поползновением иссякающе, до воскрешения волею человеков и обретаемых в могилах вечных, духом раскрываемы и воспряше человеколюбце…
Что-то важное, тревожное, скрытое от постижения чудилось Есаулу в словах игумена. Смысл ускользал, словно его вымывало ветром. И только «лобное око» тревожно вращалось в глазнице, выглядывая кого-то в ночи.
— И всякую снедь и млеко и яства горние на пирах пречистых во днесь избавления и прославления, яко тенета в пучины вод бросаемы, рыба озерная лабардан, изъятий из волн на обретение и вкушение днесь…
Молебен окончился. Чернобородый игумен сверкнул в смоляной бороде белозубой улыбкой, кланяясь дорогим гостям:
— Теперь же, братья и сестры, добро пожаловать в нашу смиренную обитель. Хоть вы и устали с дороги, но смею предложить вам ее осмотреть. Затем приглашаю на монастырскую трапезу, во время которой вам будет предложена озерная рыба лабардан, редкий экземпляр, изловленный рыбаками-монахами в глубинах нашего озера. По преданию, такой же рыбой потчевали патриарха Никона, когда тот, уже в опале, прибыл в нашу обитель и был премного утешен, вкусив этой нежной диковинной рыбы.
— Люблю рыбку, — оживился Добровольский, плотоядно облизываясь. — А как, простите, готовят эту самую рыбу лабардан?
— Кладут на лед, замораживают, а потом секут на куски и едят сырой, как строганину, — охотно объяснил игумен.
— Рыбка — слабость моя. Не терпится отведать, — потирал стариковские ручки Добровольский.
Игумен откинул мантию и поправил рясу. На мгновение обнажились начищенные сапоги, и Есаул с удивлением заметил, что их пятки были тесно составлены, а мыски разведены врозь. Подобным же образом были поставлены ноги остальных монахов, а также Добровольского, Куприянова, Круцефикса и некоторых других, включая усы Михалкова.
Монахи и гости величаво потянулись в обитель, где продолжал ухать приветственный колокол. Есаул же, улучив минуту, отделился от толпы и направился в дальнюю келью к святому схимнику.
Келья, куда привел его молчаливый служка, была слабо озарена двумя свечами. Почти все пространство занимала кровать, и на ней, плоско, во всю длину, слежал схимник Евлампий — остроконечный черный капюшон, черная схима, на которой страшно и великолепно, белым шитьем, было начертано распятье, выведены ступени Голгофы, глазел Адамов череп и белели кости. Из-под капюшона смотрели запавшие немигающие глаза. Белая как снег борода невесомо покрыла ткань схимы. Из рукавов выглядывали огромные стариковские руки с костяными недвижными пальцами в черно-синих венах. В головах стояла тумбочка, уставленная пузырьками лекарств, флаконами, чашками, — ералаш, какой царит в комнате смертельно больного. Воздух был душен, пропитан медикаментами. Казалось, свечам трудно гореть в этом недвижном загустелом воздухе, они задыхаются и скоро погаснут. Все стены были увешаны иконами, в окладах, иные за стеклами, перед которыми висели погашенные лампады. На стене, в ногах старца висел крупный образ святомученика царя Николая, в мундире, полковничьих погонах, с золоченым нимбом вокруг лобастой головы. Над кроватью схимника на железной петле висела седая, с затесами и зарубками доска, в которой виднелись две темные дыры, будто дерево было пробито гвоздями.
Есаула, как только он оказался в келье, едва увидел немощное, изможденное хворями и постами лицо, огромные, мерцающие в костяных впадинах глаза, — охватила горячая нежность, слезная любовь, сострадание и острое влечение к дорогому человеку.
Старец медленно перевел на Есаула глаза, и они утратили отрешенность и истовость, наполнились слезной радостью:
— Вася, пришел… Я ждал… Долго же ты добирался…
— Отче! — Есаул упал на колени перед ложем, хватая холодную, тяжелую руку. Стал покрывать ее поцелуями. — Благослови меня, отче!
Вторая рука тяжело, словно темная усталая птица, оторвалась от постели, воспарила над головой Есаула и трижды, с усилием, перекрестила его.
— Ждал тебя, Вася… Следил за тобой оком духовным… Видел твои боренья и страсти… Звал тебя… Скоро умру…
— Отче, я присылал лекарства, гостинцы. Не мог раньше выбраться. Но стремился к тебе душой.
— Ты весь в сражении. Времена порубежные. В этой брани уже нет посторонних. Либо за, либо против. Вижу, как ты сражаешься. Ты воин Христов!
— Хочу тебе исповедаться, отче. Обуревают сомнения. Прав я или нет. Задумал грозное дело. Через день его совершу. Звал Ангела, чтобы он мне снова явился. Повторил слова, что тогда в Афганистане сказал. Не является. Хочу тебе исповедаться.
— Ты и так исповедуешься. Каждая твоя клеточка глаголет.
Глаза старца, исполненные любви и слезного блеска, сияли из-под черного капюшона. Серебряная борода шевелилась от негромких слов..
— Хорошо, что успел доехать… Последний раз видимся…
— Отче, я доктора пришлю замечательного. Хочешь, возьму тебя отсюда в больницу? Лучшие врачи, отборные лекарства. Поправишься.
— Мой доктор на небесах. — Старец Евлампий перевел глаза на стену, где в сумрачных тенях висел царский образ. Колыхания света блуждали по лику, золотому нимбу, блестящим эполетам мундира. — Государь молится за меня, зовет к себе. Он и за тебя молится, Вася. За всех праведников и подвижников, которые Россию спасали и поныне спасают. И за всех грешников, которые Россию мучили и поныне мучают.
Есаул стоял на коленях перед старцем, чувствуя, как в воздухе, еще недавно затхлом, полным болезненных испарений, повеяло чудной прохладой, чистым благоуханием, будто отворили окно в сад, где, невидимые в ночи, цвели деревья. Это было дуновение любви, исходящей от старца, преображающей тварный болезненный мир в духовное пространство, где «несть болезней, печалей».
— Видишь, доска на стене. — Схимник слабо кивнул на висящую доску с двумя отверстиями, похожими на следы от гвоздей. — Ее подарил мне знакомый архимандрит, который тайно проник в подвал дома Ипатьевых и вынес оттуда доску. В ней следы от пуль, убивших государя и наследника. Когда молюсь Христовой молитвой и государь меня слышит, тогда из доски, из черной дыры, как из государевой раны, вырастает роза и пахнет дивно. Вот помолимся с тобой, Государь нас услышит, и расцветет роза, цветок небесного сада.