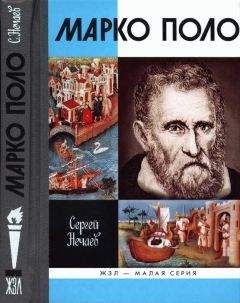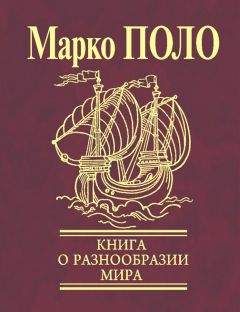Я вспомнил, что в трубку слышал, как он часто повторял «бана» и «эли»… и еще — «брррат-джан»… Да, «бана», «эли»…
— Бана?.. Эли?.. Брат-джан? Армянин стопроцентно! Какой-нибудь армянский хач! Ну-ка, ну-ка, интересно, как выглядит этот Сурррррен? — шутливо зарычал полковник.
Я не был уверен, но какого-то черновязого… нет, темнявого типа я видел около стойки портье, когда выходил:
— В таком зеленом, с блеском… И тут… такие колбаски, — показал я у себя под ушами.
— А, бакенбарды… Бард? Бакен?[100] Щёчная борода?
— Да, бардыбакены толстые… чёрные… И нос…
— Большой? Как у меня?
— Нет, больше!.. И мяснее… Мясной нос!
И я покраснел, вспомнив Алкины дефиниции и вдруг думая, какой член у полковника — мясистый или кровавый, — но полковник мое замешательство не заметил, что-то обдумывал, потом позвонил кому-то:
— Володя, дорогой, проверь, пожалуйста, по базе фальшаков — имя Сурен, фамилия как-нибудь на «ян» будет, все они «яны»… Лицо явно кавказской национальности… да-да-да, как и я… Что делать?.. От себя не убежишь… Кто есть — тот есть. Это знаешь, как с одним шотландским мастером, которого наш любимый царь выписал вместе со станком, монеты печатать: лично выдавал драгметаллы, часто наведывался в мастерскую и каждый раз, уходя, говорил, чтобы тот остерегался русских и не доверял им, потому что все русские — воры, могут даже кипящее золото из печи стырить. Вот раз на обеде в Кремле этот мастер, бухну в сверх меры, не удержался и спросил, как это царь такое говорит — разве он сам не русский?.. Все думали, что Грозный его там же укокошит своим дрючком. А Грозный ответил: «Нет, почтенный золотовар, ты ошибаешься, я из немец!» Так и сказал — «из немец»… Ну да, Грозный из немцев, Сталин — из грузин, Троцкий — из жидов, Хрущев — из хохлов, Брежнев — из цыган… Володя, посмотри, пожалуйста, не откладывай. Возраст? Фредя, возраст какой у того «яна» в зелёном пиджаке?
А я в это время лихорадочно вспоминал, были ли в том меню расценки на открытие и закрытие дел, и не сразу услышал его вопрос; а когда услышал, то преданно и с готовностью ответил:
— Да, не знаю, какой… такой… Под бардыбакеном не видел… волос чёрный, — искренне сожалея, что ничего конкретного не могу сообщить об этом проклятом Су-роне. — Всё скажу… но не знаю, что говорить-сказать…
— Ничего, портье скажет… Это какого портье он друг?
— Как кот в маслице… вот его…
— Толстый такой, дородный? Микола?
— Да, родный такой… до кола…
Полковник пометил что-то у себя и стал спрашивать про то, где, по моему мнению, сейчас могут быть наци и что мне известно про чёрного радикала, у которого был нож-бабочка? Я отвечал, что не знаю, где они — «может, на базаре, акции делают, чухчей бьют?» — а радикал да, ножом играл… То ли Онис, то ли как-то звали, точно не помню:
— Такой весь, черняк до ушей… Ножом играл… Такой поджаристый… поджарчатый…
Звонок! Это папа:
— Wohin und an wen soll das Geld gehen?
— Moment, ich frage.[101]
Я сказал полковнику, что отец хочет знать, кому и куда нести-принести деньги, полковник написал на бумажке номер телефона:
— Пусть в Москве по этому номеру позвонят, им скажут, куда подъехать.
Я продиктовал папе цифры, после чего он, не попрощавшись, повесил трубку, а полковник порвал листок с номером, сказав:
— Но вам, дорогой геноссе, пока придётся сидеть тут…
— Как сидеть?.. Мы же… обговорились?..
— Не имею права… Да и тут целее будете, а то, я вижу, вы любитель приключений… И как вы из этих кений и австралий живым вернулись?
— Нет, прошу, Ильич Гурам, пустите…
Полковник сделал рукой успокаивающие жесты:
— Ну куда я вас отпущу? Вам и жить негде.
— А гостиница?
Полковник сделал большие глаза:
— Забудьте! Какая гостиница, вы в своём уме?.. Это место преступления! Там всё оцеплено! — Он начал загибать гибкие пальцы, похрустывать ими: — Места жительства у вас нет, прописки нет, регистрации нет, виза через день кончается, поручителей и залога нет — куда я вас отпущу, на деревню к дедушке?.. Нет, тут посидите… Всем спокойнее, и вашему папе в том числе… Вот я понимаю — немецкая чёткость! Вопрос — ответ — всё ясно — вперед!
Он набрал номер по бездисковому телефону и спросил «ребят», как у них с камерами — что свободно, что занято:
— Хорошо… Хорошо… Если что — с чеченцем посади…
Положив трубку и увидев, как я вздрогнул при слове «чеченец», он успокоил меня плавным взмахом руки:
— Они вежливые и корректные, не бойтесь! Нет, это в крайнем случае. Камеры есть… Чем-нибудь займитесь там… Есть у вас книжки?
— Есть. Дайте мою тетрадь… Дневник… — вздохнул я, понимая, что надо будет сидеть до… до чего? Как папа сможет такое сделать?.. Где у него 50 тысяч?.. Как он их пришлёт? А завтра дело откроют, скажут, теперь дело открыто, штраф — не пятьдесят, а сто, потому что «официально»…
А полковник, переспросив:
— Дневник? — вытащил тетрадь и, поколебавшись, просмотрев её и пробомотав: — Вообще-то дневники — это вещдоки… — отдал её мне: — Ладно, до вечера, а там посмотрим… Вот ручка… Да, вот деньги. — Он вытащил из сумки остатки рублей (что принёс Мишаня с китайского рынка) и кинул их на стол: — Вы щетку хотели… Ну и другое… Дадите вахте, они вам и щётку, и еду принесут, только алкоголя не пейте — может быть, вас прокурору показать придётся…
— Что я, выставка? Tretjakowka? Прокурор не хватает совсем! — Я ужаснулся одному этому слову, засовывая в карман тетрадь и деньги.
— Да он не страшный… Да, и вахте «на чай» не забудьте дать, за принос…
— Понял. При заборе. Чай-пиво.
Когда сержант вёл меня в подвал, ногам в тапочках было не больно, голове — прохладно, на душе посветлело. О том, что сейчас делает и о чём думает папа Клеменс и откуда он может в Москве до вечера найти 50 тысяч евро, я уже не думал. Не хотел думать. Об этом будем думать потом… Лишь бы бежать отсюда, от судов и проблем, а с деньгами как-нибудь… Распилим… Или у дедушки Людвига попрошу… Свобода стоит 50 тысяч… В принципе, не дорого, если вспомнить, чего там только нет: и экстремизм, и наркотики, и фальшивые деньги… Хотя всё это правда, они ничего не придумали. Какие претензии?.. Были граммар-наци? Были. Марихуана? Была. Фальшивые деньги — наверно, раз они говорят… «В общем, как Де Ниро, он в Чикаго палкой убивал напополам… нет, наповаляй… или наобум?»
На лестнице я ощупывал в кармане деньги, думая, какие эти люди всё-таки человечные и хорошие!.. И деньги дают… И деньги берут… Хоть бы взяли и отпустили… Сержант шёл следом. Я сказал ему:
— Товарищ, когда у меня будет очень голодняк, вы помогаете?
Он оживился:
— Не вопрос! Что вы хотите? Тут, рядом, у метро всё есть — и шаурма, и пирожки, и хачапури, куры гриль…
— Нет, куры — нет! Вот пирожки… и эти, сыр-пирог… харипури… чакрапури очень вкуснятые… поджарные…
— Сколько?
— Ну, сколько хотите, мне и вам… Штук десять… Вот деньги…
Сержант взглядом покопался в деньгах и, услышав, что нужны еще пепси, ментоловые таблетки, паста, зубная щетка, усмехнулся:
— Далась вам эта щётка!
— В том дело, что не далась… Не дала себя!
— Ладно, ваши проблемы. — Он вытащил пару купюр: — Хватит! — и довёл меня до камеры 8: — Всё. Отдыхайте. И не переживайте — всё хорошо будет!
И, пока он уходил и я слышал его шаги, у меня внутри приятно растекались его золотые слова: «Всё! будет! хорошо!» — и я подумал, что хорошо, что я помолился сегодня утром русскому Господи — может, он спасает?.. Спасёт?
Расчищая место около ведра, прилаживаясь писать дневник, я думал о том, что вообще какая это страна особая, где шофера говорят о царях как о близких родственниках, старики знают все тайны вермахта, мороженщики рассуждают о Византии, а билетёрши и продавщицы видят тебя насквозь, читают по твоим глазам и зубам, как в открытой книге!.. И они все как будто живут сразу во всех временах!.. Об Иване Грозном говорят как о соседе, Петр I — словно их хаусмайстер… Сталин вообще из Кремля не выходил… У нас никто из молодежи дальше своего отца ничего не знает. А для русских — всё живо, всё сейчас и теперь, было не вчера, а сегодня утром, сейчас, действие идёт… Ну когда я в Германии говорю с киоскёром, как Самуилович, о таких вещах? Халло-халло-погода плохая-погода хорошая — и всё! А тут!.. Всё живо, движется, дышит…
А как тонко всё чувствуют, ощущают!.. Недаром в Берлине, в специальном борделе для девственников, работают исключительно русские девушки — они, как никто, могут понять человека, вникнуть в его проблемы, сопереживать, быть нежными и деликатными, не то что наши фурии… У них совесть большая, а у нас, немцев, маленькая — где была эта совесть, когда Гитлер бродил и всё брал?
И как Вы были правы, когда говорили, что человека очень легко сделать счастливым: достаточно приговорить его к казни, поставить к стенке, ударить в барабаны, а потом казнь отменить. Казнь отменяется! Казнь отменят себя! Вот и у меня… Только следы от этих железных нарукавников до сих пор краснеют…