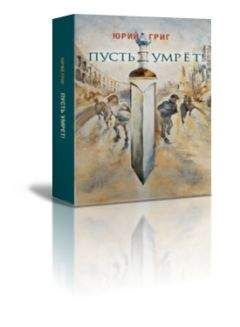Скоро прямо по курсу, на горизонте, замаячило темное пятно. Оно скрывалось всякий раз, как только суденышко проваливалось в долину меж покрытых рябью вальяжно-медлительных валов, и вновь появлялось, стоило ему плавно вознестись на вершину следующей волны. По мере приближения земля все уверенней вздымалась из океана таинственной темной громадиной.
Ветер стал затихать; куда-то пропали водяные валы; барашки, совсем недавно бегающие по их гребням, исчезли; океан бесшумно выдохнул, как пациент на приеме у доктора, и, затаил дыхание. Все замерло…
Даже старик Нкулункулу смолк, что было очень необычно для его словоохотливой натуры. Он лишь энергично покивал, когда пассажиры спросили его – тот ли остров?
Лодка сбавила ход. Нкулункулу, несмотря на недавнее бахвальство, старался вести лодку осторожно, намереваясь войти в облюбованную им во время прошлых вылазок бухту в южной оконечности острова. «Здесь, – сказал он, – будет безопасней, так как гавань с причалами и поселок находятся на северо-западе. Там море глубокое, а сюда вряд ли кто заглянет».
Старик рассчитал верно – к острову им удалось приблизиться незамеченными, почти в полной темноте. Лишь восходящая луна своим красноватым светом прокладывала по успокоившейся на ночь черной воде трепетную серебряную дорожку.
На малых оборотах они вошли в бухту.
Она была невелика – около кабельтова в поперечнике. Скалы, вертикально подымающиеся из воды на высоту двадцатиэтажного дома, служили великолепным укрытием от посторонних глаз, и суденышко наших искателей приключений без особого труда укрылось в естественном гроте, выеденном в скалах не знающими устали волнами.
Здесь решено было бросить якорь и заночевать.
На лодке имелось две крошечные каюты, едва более вместительные, чем багажник легкового автомобиля, но для одной ночевки сгодились бы вполне.
— Мбабе может занять отдельную каюту, – предложил старик. – Янаби кисака на мванамвали[33] могут спать во второй каюте.
Он, Нкулункулу, ляжет на палубе – ему не привыкать... По правде говоря, разумной альтернативы этому все равно не было – Фил мог поместиться внутри любой из кают только в единственном числе.
Наконец все вздохнули с облегчением – чувство тревоги, не отпускающее с момента приближения к острову, незаметно прошло. Зажгли фонарь и в его свете приготовили что-то съедобное из консервов. Измотанная путешествием Алёна клевала носом. Остальным спать не хотелось.
Старик сидел на палубе, скрестив ноги, и молился, держа перед собой в вытянутых руках амулет. Эта штука висела на его шее на длинном шнурке, и по собственному утверждению старика он с ним никогда не расставался.
Из его объяснений явствовало следующее: амулет сей является оберегом – хранит своего обладателя от опасностей, коих, понятно, в здешних местах хоть отбавляй. В юности – это было очень давно – Нкулункулу приходилось зарабатывать на хлеб, развлекая туристов, которых погоня за приключениями заносила в их забытые богом места. Главным «фирменным» зрелищем тогда было кормление акул сырым мясом изо рта. Многие юноши неплохо зарабатывали, промышляя этим. Нкулункулу однажды получил от очень богатого белого человека целую двадцадку!
— В то время, янаби Мистер Фил, это были очень большие деньги. Даже сейчас некоторые работают целую неделю на серебряных рудниках, чтобы заработать двадцать долларов.
Старик упорно обращался к главному из белых пассажиров, подавляющему размерами своего тела и бороды, удостаивая остальных обращением лишь в третьем лице.
Итак, выходило, Нкулункулу справлялся с акулами лучше всех. Редко, кто решался так смело подплывать к этим хищницам. Как объяснял старик, главное – хорошо изучить их повадки и побороть страх. Тогда акула не опаснее домашней кошки. Он мог даже прокатиться верхом на этом страшном хищнике. Некоторые, правда, погибали. Так случилось однажды и с его товарищем.
А как-то раз одна молодая папа (так у них называют акулу, пояснила полусонная Алёна, изучавшая в университете суахили), с черным рылом (мако, снова пробормотала Алёна) – он ее узнавал по зазубрине на спинном плавнике – на беду свою решила проверить молодого пловца, попытавшись оттяпать ему голову. Но когда она разинула пасть, Нкулункулу не растерялся и вцепился зубами прямо в акулью морду.
— Акулы очень не любят, когда их бьют по носу, янаби мбабе, – пояснил старик. – А мои челюсти в молодости были такими крепкими, что во рту у меня остался кусок акульей кожи, которая вот такая толстая, янаби Фил! – он показал большим и указательным пальцем, какая толстая у акул бывает шкура и снова похвастался: – Вот какой Нкулункулу был в молодости!
Старик бросил торжествующий взгляд на белых людей, которые, он уверен, были не способны не то чтобы прокатиться на акуле, но и просто дернуть ее за хвост, что запросто проделывали даже дети из его племени, едва научившись плавать.
Завершая свой рассказ, Нкулункулу пояснил, что амулет его сделан из зуба папы капунгу (тоже акула, огрызнулась растормошенная Алёна, и тут же заснула вновь). Эта капунгу поплатилась не только зубом, но и своей жизнью, потому что по несчастной для нее случайности оттяпала Нкулункулу палец. Для пущей убедительности он показал ладонь левой руки, на которой не хватало мизинца. Нкулункулу не простил этого акуле, выследил и убил ее.
После своего выразительного рассказа старик опять погрузился в интимное общение с магическим предметом, что не мешало ему прислушиваться к разговору пассажиров на странном, не знакомом ему языке. Он не понимал ни слова, но это не имело значения. Нкулункулу верил, что однажды вошедшие в уши слова сохранятся в его голове, и настанет час – они станут так же хорошо понятными, как родной язык.
— Видишь, Фил, – сказал маленький господин, – этот человек развлекал белых, рискуя собственной жизнью, а они платили ему за это целых двадцать долларов! Наверняка это был очень щедрый американец – не поскупился на двадцатку. А Нкулункулу – чем тебе не гладиатор?!
— Тебе повсюду мерещатся гладиаторы, бадди.
— Согласись, на это есть веские причины. И ты, надеюсь, тоже постиг простую как эта пустая консервная банка из-под компота истину – завтрашний день ничего не изменит. Все превратилось в прозрачный кристалл, то есть стало пронзительно ясно.
— Что нам должно быть пронзительно ясно, Алекс? – облизывая ложку, вопросил толстый господин.
— Я имею в виду: ясно то, что мы имеем дело не просто с преступниками.
— А с кем же тогда?
— Я удивлен, старина! С отбросами человеческого общества и законченными негодяями, с кем же еще?
— В том, что здесь собралась куча дерьма, я ни минуты не сомневаюсь. Но ответь, почему ты спрашиваешь?
— Потому что не знаю, зачем мы это делаем. Почему, например, ты это делаешь, Фил? Почему, черт возьми, ты здесь?! – воскликнул маленький господин.
— Это же ясно, как день, Алекс. Я просто репортер и делаю свое дело, чтобы все знали о том, что мне самому кажется важным. Разве непонятно? Ничего личного, бадди. Вы, русские, всё усложняете, пропускаете через сердечную мышцу.
— Ладно... Знаешь, что мне недавно сказал один умный человек, профессор?
— Как я могу знать!? У тебя так много умных друзей.
— Он сказал, что гладиаторы в древности служили двум целям: развлекали кровожадную публику и участвовали в государственных переворотах в качестве инструмента. Многих цезарей убивали гладиаторы.
— И...
— Я тогда подумал – репортеры похожи на гладиаторов. Развлекают публику, дерутся с другими, такими же, как они сами... с теми, кто на службе у других. Нашими руками свергают императоров и возводят на трон новых.
— Типичный взгляд резидента страны, где отсутствует журналистика.
— У нас не говорят «резидента»... у нас говорят: жителя страны.
— Не возражаю – пусть будет житель, хотя, лично я думаю, ты не есть typical представитель жителей вашей страны. Но у вас нет журналистики. Согласен?
— Если ты имеешь в виду, что у нас нет независимой журналистики, то я с тобой полностью согласен, но...
— Даже ты, мой друг, не можешь преодолеть стереотипы прошлого, – прервал на полуслове Синистер. – Не надо путать божий дар с яичницей. Запомни, не существует просто журналистики: либо она независимая по определению, бадди, либо ее нет вообще. Вы, русские репортеры, не даете никому сделать собственные выводы, навязываете свое мнение. Даже в репортажах не остаетесь беспристрастными. Мешаете людям осмыслить происходящее самостоятельно и так же самостоятельно дойти до истины, какой бы она ни оказалась. Вы не понимаете, что задача репортера не в том, чтобы драть глотку, объясняя, что такое хорошо, а что такое плохо, а в отборе материала. И это он должен делать сообразно своим убеждениям. Ваши парни так и не научились убеждать правдиво изложенными фактами. Сверхзадачу журналистики они видят в навязывании своего мнения. А ведь это мнение может быть кем-то ангажировано. Не так ли? В вашей империи есть только пресс-служба власти, просекаешь?! Она занимается тем, что приказывает своим сотрудникам вкладывать в голову граждан только то, что выгодно заказчику, то есть ей самой... Мы исповедуем другой принцип: честно доложить все, что мы сами считаем нужным, желательно в увлекательной форме, а выводы каждый пусть делает сам. Это должен понимать даже дикобраз. Так вы, русские, кажется, выражаетесь?