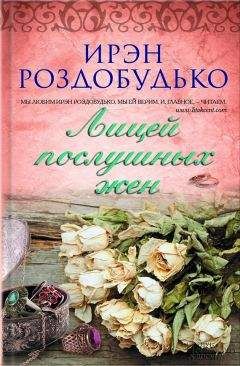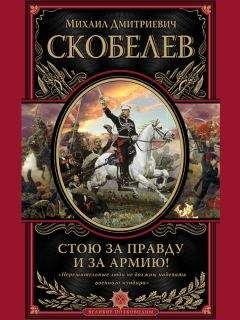Сразу же из-под широченной кровати ко мне вынырнула Кошка.
Она давно привыкла путешествовать, но всегда – вот уже сколько лет! – сохраняла независимый и обиженный вид, когда я возвращался к ней после выступлений.
Тяжелыми шагами солидного человека, который знает себе цену, она приблизилась ко мне и подняла голову: мол, ну, как все прошло?
– Все ок, – сказал я, – завтра утром пойду составлять контракт.
«Куда еще нас занесет?» – недовольно мяукнула она.
– Несколько выступлений с Бреговичем. Сначала Португалия, потом – Париж… Как сложится.
«А когда – домой?» – царапнула она меня за штанину.
– Скоро, старушка, скоро. Обещаю, – виновато пробормотал я, сбрасывая пиджак, – но сама понимаешь: с Бреговичем играешь не каждый день. Придется тебе потерпеть.
Я погладил ее, и на руке осталась шерсть. «Завтра куплю ей витамины и проколю с неделю», – решил я.
– А теперь – спать.
Кошка послушно залезла в свою плетеную корзинку, которую я всегда возил с собой.
Я погасил все лампочки, кроме бра в форме раковины над кроватью, и в широком, почти во всю стену, окне засветилось другое кино: подсвеченные неоном очертания храмов, цветные фонарики кафе, ожерелье аллей, увитых гирляндами – синими, зелеными, красными.
Я выключил бра, и стеклянный экран приблизился, а я растворился в каменной плоти города, как снег, начавший сыпаться с темного ночного неба. Отель, в котором мы поселились, был высоченным – со своего этажа я мог видеть большую часть Градчан, очерченных золотым поясом Влтавы.
Сегодня мы отыграли вторую часть фестивальных выступлений. Трижды я играл один, на бис.
И теперь, невзирая на усталость и стоя над ночной Прагой на высоте птичьего полета, чувствовал себя настоящим хозяином города.
Это были редкие и скоротечные минуты, в которые меня одновременно охватывали два разных чувства: счастья и… бессмысленности жизни.
Они, как иголки, пронизывали сердце, легкие, почки. И, как две реки, встречающиеся в одном русле, поднимали водоворот, в котором я жил и умирал одновременно. Не знаю, но, скорее всего, это можно было бы назвать пиком познания того короткого отрезка, который мы проводим на земле.
В такие минуты передо мной всегда вставала картина нашего погрома ЛПЖ – тот же восторг и то же отчаяние. Восторг – когда я в составе Народной Оппозиции громил лабораторию, отчаяние – когда не нашел там того, что искал…
Со временем я смирился.
Но след от того давнего события остался во мне до сих пор в виде довольно странного предостережения: я до сих пор был одинок. Каждая моя попытка связать себя с кем-нибудь заканчивалась провалом. Ловил себя на мысли, что женщина, нравившаяся мне на данный момент, заражена этим проклятым вирусом, знание о существовании которого отравило мою жизнь. И если быть откровенным, остановило поиски моей старой знакомой.
Я даже был рад, что не нашел ее.
Но и остальные не вызывали во мне доверия.
Несмотря на это, мы прекрасно уживались с Кошкой! Да и в оркестре дела шли самым лучшим образом.
Мы много гастролировали. А иногда я ездил один, собирая аншлаги.
Точно говорят: если где-то отнимется, то где-то и прибавится.
Если не везет в любви, жди мирового признания.
Первый камешек в этот «пьедестал» неожиданно заложила Сезария Эвора, которая свалилась на меня как огромная черная туча. Она еще не была настолько популярна в странах третьего мира, и мой приятель, который организовывал ее выступление, предложил мне разогреть публику двумя-тремя композициями.
Тогда мой саксофон, несмотря на все мои уговоры быть сдержанным, почти взбесился и заговорил про Острова Зеленого Мыса на кабовердском диалекте. Он сам, как когда-то давно с той девушкой, подарившей мне Кошку, или с тюленихой Минни, повел меня на родину этой черной королевы и разговорился настолько откровенно, что ей пришлось взяться за сигарету прямо за кулисами. Одним словом, разогрев получился таким, что после концерта босоногая богиня, которая не отличалась красноречием, крепко сжала мою руку в своей, жесткой, как наждак, и, несмотря на плохой перевод, дала мне знать, что…
Собственно, если бы это была простая деревенская баба, я бы перевел эту речь примерно так: «Не сиди в сраке, сынок! У тебя есть что сказать миру!» Кажется, она добавила еще пару крепких кабовердских выражений, которые переводчик не понимал. Зато после такой «путевки в жизнь» я действительно покатился по свету как перекати-поле. И потащил за собой Барса, Петровича и еще нескольких лабухов, которые составили мне хорошую компанию.
С того времени я понял, что весь мир, этот маленький шарик, опутан сетью кровеносных сосудов, как живот беременной женщины. Эти сосуды, в отличие от человеческих, существуют как отдельная замкнутая система, но в ней ты можешь дышать и жить как вполне равноценная частица.
Я мог существовать только в «системе», которая касалась искусства, – в ней обменивались кровью все, кто был причастен к творчеству.
Удивительные потоки этой крови соединяли тебя с тем, о чем ты мечтал в детстве или, находясь в полной ж… в каком-нибудь самом глухом углу мира. Важно было только присоединиться к этой системе, влить в нее свою кровь со всей страстью и желанием быть именно в ней.
Я существовал в музыке, как моя погибшая Минни – в воде. Я знал всех музыкантов мира, слушал их на дисках и знал по имени с незапамятных времен. Они существовали для меня как друзья и собеседники. И поэтому с годами не было ничего удивительного в том, что я входил к ним как старый приятель, начиная разговор с полуслова.
Так же в своей сети сосудов, которые опутывали мир, жили и политики, и чиновники, и… алкоголики, толпящиеся с утра у пивных ларьков. У каждого свои координаты и тайные знаки, понятные им одним.
Я только до сих пор не знал, в какой системе находится та девушка, которую я пытался вселить в свой мир. Но догадывался, что она живет в системе женских забот о семейном очаге, в системе моды, воспитания детей, кулинарии, шитья и сериалов.
Босоногая черная королева, полная и удивительно естественная в своей некрасивости, дала мне понять, что все возможно.
И поэтому с ребятами из Wedding and Funeral Orchestra – Свадебно-похоронного оркестра Горана Бреговича, – дававшими жару как-то на Софийской площади, мы нашли общий язык, как только я на спор сыграл пару фраз «Лунной сонаты» Бетховена, соединяя те стили, в которых они работали: хард-рок, классику, симфо-рок, и, в отличие от их национальных мотивов, добавлявших того особого колорита, что отличал их от других, ввернул туда несколько импровизов украинского фолка. Они хохотали как сумасшедшие. А мое плечо разболелось от их похлопываний.
Честно говоря, я и сам не ожидал такого эффекта от «Лунной сонаты».
Но моя теория о кровеносных сосудах мира действовала и даже достигала таких классических глубин, как Бетховен.
Кстати, эта теория касалась и более эффективных действий! Горан писал для Сезарии, Сезария (царство ей небесное!), как человек дела, видимо, замолвила словечко за меня. Кроме того, один из менеджеров оркестра был болгарином, который видел наши выступления с Минни в «Балканском шапито». То есть это был целый ряд случайностей, подтверждавших, что я влил кровь туда, куда нужно!
И вот теперь, находясь в Праге, я должен был встретиться с менеджером и договориться о выступлениях в составе оркестра Бреговича. Поскольку мы еще должны были концертировать несколько недель, он приехал сюда, в Чехию.
Я еще ничего не говорил об этом ни Барсу, ни Петровичу, но предчувствие скорой разлуки и какого-то предательства навеивали на меня бессонницу уже где-то с неделю. Мое состояние могла понять только Кошка. Но ее я не собирался покидать. И это было моим единственным оправданием перед собой и своим страхом обмана в отношениях. Уж кто-кто, а Кошка точно не была заражена коварным вирусом.
Она любила меня просто так, ни за что.
Стоя над городом, как призрак, я взял саксофон. Когда мы оставались наедине, он всегда говорил мне правду. Иногда эта правда не была приятной.
«Ты погубил Минни. Она могла бы до старости плескаться в воде и ловить рыбу из рук посетителей зоопарка. И была бы счастлива, если бы не твоя музыка. И девушка, которую ты не искал или искал с тайной надеждой не найти, так как ты – трус, могла бы быть счастлива, если бы не твое самонадеянное вмешательство…»
Его голос был хриплым.
В конце концов, произнеся еще несколько отмороженных нот, он закашлялся, как старый курильщик, и чертыхнулся: «Черт! Разве ты не слышишь, болван, у меня стерлась трость?!»
Да, я слышал, что звук стал хуже.
Конечно, трость, или как ее еще называют, язычок – то, что образует звук внутри инструмента, давно износилась, как кроссовки у футболиста. Я это заметил еще позавчера. Но менять ее здесь казалось невозможным. Я требовательно относился к такой важной детали, поэтому трость моего саксофона была изготовлена на заказ у мастера, который жил за тысячи километров отсюда.