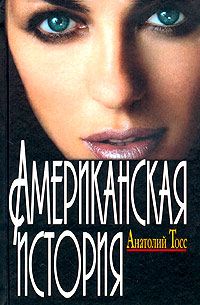Марк — мое поражение, через него я познала мир, и жизнь, и себя, и это поражение со временем и с пониманием стало дороже всех моих побед, и я берегу его — чувство его, память о нем, как не берегу память ни о чем другом.
Мне позвонил Рон, он часто звонит мне на правах старого приятеля. Как ни странно, это его смешная теория тогда, давно, подтолкнула меня к моему выбору. Впрочем, может быть, теория была и не его, может, ему ее подсказал Марк, не знаю, никогда не спрашивала, а теперь уж точно не имеет никакого значения.
В любом случае он сообщил, что разговаривал с Марком по телефону, и тот сказал, что планирует приехать через пару месяцев, и попросил передать мне привет, что он, Рон, этим звонком и делает. Я вспомнила, как Зильбер мне однажды сказал, что жизнь почти всегда дает второй шанс.
Другой вопрос, захочешь ли ты воспользоваться им? — подумала я.
Америка притягивает тех,
кто больше ни к чему притянут быть не может.
Да, как-то так случилось, что я тоже
давно уж не читаю нараспев
ни одного раскатистого гимна.
Когда так долго странствуешь — не видно
ни флагов, ни регалий, ни орлов
с потрепанными временем главами,
когда так долго странствуешь — годами,
все как-то сглаживается...
В списке городов
с их конными чугунными божками
ты помнишь лишь себя,
бредущего дворами
одним путем своим,
которым и идешь.
Мы сидим вдвоем — ты, да я
в тихой, заснувшей кухне,
вечер рассыпается свежестью еще не опавшего дня,
чайник на газовом огне пухнет
и исходит топленым жаром
подмоченного кипятка.
Что до меня,
то я вижу, как будущее вместе с беззвучным паром
выскальзывает в застывшую прореху окна.
Я легко могу дотянуться до твоего плеча,
вязкого, как задутая недавно свеча,
но боюсь обжечься.
От прикосновения становится горяча
не только рука, но и взгляд,
оттого он скользит наугад
по другим, менее опасным предметам:
капля на кране набухает и как капля дождя
на лету рассыпается светом.
Так же и с прошлым — его нету.
Прошлое есть нелепое порождение вчерашнего сна.
Окно скрипитлишь слегка,
напрягая выпуклый ветер,
пальцы твои, переплетаясь,
напоминают сети,
в которые я заплыл из несуществующего теперь далека.
Время — это мгновение, упирающееся в твои глаза.
Время — это плавность груди
под легким шелком халата.
Это, возможно, хрупкий привкус граната,
так его рисовал на своих картинах Дали.
Время только в настоящем обретает реальность.
Как эта кухня,
как, прости за банальность,
твое дыхание во время любви.
Думая о тебе, я вспоминаю антилопу,
которую видел однажды в горах, в лесу,
с пятнистой тяжелой попой,
живущей отдельно от ее напряженного тела,
как бы независимо, на весу.
Сколько бы ты ни говорила «я люблю»,
либо крича, либо шепча мне в ухо,
мне мало,
потому что познание через органы слуха
имеет свои пределы,
но, когда я закрываю глаза,
я почти что чувствую прикосновение твоего тела,
как чувствует зрачок на ветру проступившая слеза.
Дело в том, что признание создает ощущение интима,
как запах пожухлых листьев,
как чуть уловимый привкус далекого дыма,
говорящий о где-то существующем тепле,
впрочем, не доступном ни тем, кто рядом с тобой,
ни самому тебе.
Так и твое признание,
будучи нематериальным, оно ускользает,
и очень скоро сознание
требует нового словесного подтверждения
твоих чувств,
и, хотя я не являюсь магистром искусств,
я все же могу оценить их дрожащее натяжение.
Иногда я думаю о тебе, как о запахе с тонкой кожей,
и тогда, извиваясь на бесчувственной простыне,
я не могу разобраться, что оке тебя останавливает на рубеже
реальности и памяти, потерявшейся во сне.
И лишь позже,
беспокойно забывшись сном,
я еижу себя своим дедом
или, скорее, его отцом,
влюбленным в твою прабабку,
и я понимаю тогда,
что наша судьба имеет генетическую разгадку.
Эти строки написаны не в лирическом стиле,
я пишу их как прозу,
так как не хочу, чтобы твои слезы
к моменту нашей встречи остыли.
Я хочу тронутпь губами теплые слезы, без пыли
заросшего одиночества,
я хочу узнать в них пророчество
пьяной бабки
из нашего детства
и ее непонятно откуда взявшейся догадки,
что нам друг от друга никуда в результате не деться,
как никуда не деться лицу от набегающей складки.
Я просыпаюсь ночью. В темноте
сознанье опознать себя не может,
не ведая, кому принадлежит,
какому телу, имени, стране,
как Вечный Жид,
оно неловко мечется. Но все же
ему в укор в конце концов замрет,
как бабочка на коже
руки.
Своим прикосновением оно
ее доводит зябкостью до дрожи,
и даже свет, проникнувший в окно,
ее не успокоит.
Параноик,
сознание боится потеряться
в причудах сна,
который может свести с ума
своей реальностью.
Мне снова снилась мама.
Она рассказывала что-то и была
своим рассказом слишком беззаботно
увлечена,
и это было странно.
Странно было то, что я не спал,
хотя, должно быть, только что проснулся.
я это понял по дрожанью пульса.
— Ты так во сне стонал, —
она сказала.
— Мне снился страшный сон, —
я вдруг запнулся, -
что ты, ты умерла.
И этот сон едва не свел с ума
меня своей реальностью.
И мне так было больно,
как будто тебя больше никогда...
—Сейчас прошло? — она меня легонько
к себе прижала, как бы обняла,
И боль прошла, мне стало вдруг легко,
казалось, первый раз за много лет,
как будто кровь разбавил свежий снег,
и даже свет, проникнувший в окно,
меня узнать не смог,
хоть он был яркий свет.
Я повторил: — Так ты не умерла?
— Какой ты глупый, ну, конечно, нет.
— Но яже видел...
— Просто я спала.
И этот очевиднейший ответ
настолько был естественным, что я
открыл глаза
и ощутил побег
из тела моего живого сна,
сводящего с ума
своей реальностью.
Сознанье вздрогнуло, не в силах разобраться,
куда ему нырнуть,
что есть кратчайший путь
в действительность.
Догнать ушедший сон,
казавшийся реальностью?
или остаться в реальности текущей,
которая еще мгновение назад
с такой
живущей
силой
сама являлась сном?
И только лишь луна своим пустым лучом
его освободила,
и оно
вошло в меня и стало разбираться
в структуре мозга.
Видно, слишком поздно
я посмотрел на лунное пятно,
на этот умерщвленный свет,
мгновение назад проникнувший в окно
еще живым. И тусклый его след,
раздавленный по пустоте стены,
опять, в который раз,
не снял с меня вины.
Когда б мы были счастливы,
и я, проснувшись ночью, ощутил на шее
твое дыханье,
и моя рука, скользнув под бесконечность простыни,
впитавшей с покорностью черты
твоего тела,
его влажный запах,
проникнув в мои поры, растворился
по паутине вен,
заставших в ожидании, не зная,
что дать взамен
за эту ласку.
И коснувшись глади прохладной кожи,
я распознал бы по ее чуткой дрожи,
что мы,
мы счастливы.
Но мы,
мы не счастливы,
мы вновь разделены пространством, временем
и языками стран, которых мы не знаем,
и к тому же
нам знать не хочется.
Наш мир —разлука.
Закон его движенья —
разводить нас дальше,
и подчас, мне кажется,
в природе существует
одно лишь направленье —
друг от друга.
Бессонница, ближайшая подруга
моей фантазии, лишь нас соединяет.
Как слух соединяет голоса,
как связывает мозг со словом «будет»
свои надежды,
только лишь тогда
понятно мне, что страны, города,
как и вплетенье в наши жизни судеб
случайных нам людей,
нам не помеха.
Только лишь года
все расставляют на свои места,
выветривая эхо
из слова обнаженного «судьба».
Полузасохший дом, морщинами изрытый,
Окошки впалые, припавшие к земле,
И вата между рам причудливо застыла
Сугробами в стекле.
Дверь чахлую, в щелях, тихонько приоткрою,
И мрак сырых сеней вдруг поглотит меня,
Ведро в углу, колоночную воду
Я кружкой зачерпну, с кусками льда.
Шагну вперед, в забытый запах кухни,
И зарево огня в пробеленной печи,
И керосинки свет скользнет по груде угля
Усталым фонарем в ночи.
Я в комнату пройду, под красным абажуром
Стол скатертью накрыт, а слева у окна
Сплетенных нитей цвет на деревянном чуде
Вязального станка.
Большой старик в побитой телогрейке
Тяжелым лбом склонился над столом,
Непознанная мысль, дрожа, замрет навеки
Под медленным пером.
Седая женщина, с морщинистым лицом,
Высокая, с веселыми глазами,
К двум мальчикам приникла и на что-то
Указывает за окном.
А за окном черемуха лишает
Возможности дышать, цветов стена
Надежно укрывает палисадник
От сутолоки дня.
Подъехала машина, из нее
Красивый офицер, смеясь, выходит.
Он беззаботен, весел и находит,
Что -жить ему забавно и легко.
С ним женщина, они заходят в дом,
и все в нем вдруг мгновенно изменилось,
шум, беготня, посуды легкий звон
смягчает детский смех,
и женский разговор,
стремительно меняя темы,
раскрагаивает мерный баритон
мужского спора,
с жаждой перемены
застыли шахматы,
и будто бы с трудом,
с акцентом новости читает радиола.
Я пристально смотрю и все хочу понять,
Но голова моя мутится от бессилья,
Я знаю все про них, я знаю, что случится
Через пятнадцать лет и через двадцать пять.
Но в знании моем ни жизни нет, ни силы,
В нем лишь одна печаль и лишь одна тоска,
Загадки Бытия мне не понять причины,
Как и никто ее не понял до меня.
Я отступил к стене, где теплые обои
Меня принять хотят и растворить в себе,
Но нету в том нужды, их кружево простое
По памяти я повторю во сне.
Полузасохший дом, морщинами изрытый,
Окошки впалые, приникшие к земле...
Я вновь вернусь сюда, и вновь все повторится
В моей судьбе.