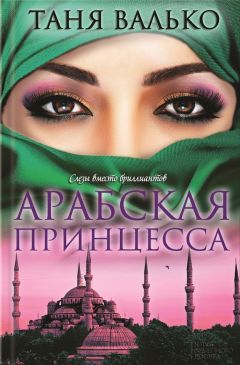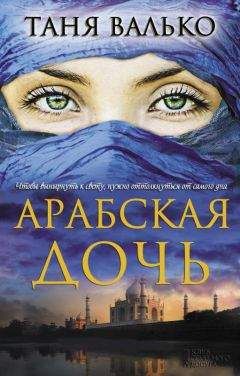Помещения в доме обустроены аскетично. В них только необходимая утварь, изготовленная доморощенными ремесленниками или самими хозяевами. Нигде нет люстр. Самое приятное помещение — зал для молитв. В центре — вытертые, все в пятнах ковры, под стенами лежат матрасы в цветных наволочках, в углу под окном стоит телевизор, рядом — деревянные шашки. Мне туда входить нельзя, потому что я нечистая.
В дни, когда я не работаю в доме, мне приходится пасти овец и коз. Поскольку одной ходить нельзя, ко мне приставлен учитель и опекун. Как будто отсюда можно убежать. У меня нет ни одного документа, и на ближайшем посту полиции, которых здесь полно, меня бы задержали и, скорее всего, отослали бы в тюрьму или карательное заведение для женщин, лишенных прав. Из огня да в полымя, лучше уж оставаться в этом захудалом оазисе и в недоброжелательной ко мне семье.
Мой опекун, или махрам, — восемнадцатилетний Рамадан, недоразвитый парень, который первым осмелился ко мне приблизиться. Бедолага так вжился в свою роль опекуна, что не отходит от меня ни на шаг. С того момента, как меня сюда привезли, Рамадан казался мне не то девушкой, не то парнем, но за зиму он очень изменился. Возмужал, лицо его стало более заостренным и покрылось редкой темной порослью и угрями, а длинные волосы дед ему обрезал ножницами до такого же состояния, как стригут овец. И вот, словно по мановению волшебной палочки, парень превратился в мужчину. Надо сказать, что изменилось и его поведение. Симпатичный, немного испуганный и нерешительный подросток стал возбужденным молокососом-извращенцем. Я уже понимаю, что с этим у меня будут проблемы, никак не могу от него отделаться, потому что все уже привыкли, что мы неразлучны. Рамадан, находясь в усадьбе, ведет себя еще куда ни шло; он таскается только за мной, шаркая и издавая какие-то странные звуки. Но когда мы идем выпасать овец и едва успеваем удалиться от двора, он становится шумным и напористым. Причем с каждым разом его поведение отличается все большей агрессивностью. Он все время ищет случая, чтобы ко мне притронуться, а потом ощупывает себя. Наверное, только этой весной парень открыл для себя собственную сексуальность. Бедняга просто не вынимает рук из шаровар и онанирует, когда только может.
Выпас овец и коз не так уж плох в сравнении с тяжелой работой по дому. Идешь на ближайший луг, на котором уже в мае нет ни одного зеленого растения, садишься в какое-нибудь укрытие, например под наполовину засохшим оливковым деревом, и дремлешь во время жары, время от времени открывая один глаз и убеждаясь, что животные не так глупы, чтобы чересчур отдалиться.
Я полюбила слушать, как похрустывает сухая трава, которую пережевывают вполне симпатичные овцы и козы. Они ходят за мной, трутся о мои ноги и заглядывают в глаза. Я сижу в мягкой песчаной ямке, а какая-нибудь сытая коза спит, положив голову на мой живот. Нехотя глажу ее бархатный мех, а она довольно фыркает. Марыся вот так же любила прижиматься ко мне и очень похоже вздыхала от счастья, когда я гладила ее волосы. Нет уже слез, чтобы поплакать над моей безнадежной ситуацией. Сердце в моей груди умерло от тоски по детям, оно уже, наверное, даже не бьется.
Вдруг чувствую как бы дуновение ветра в волосах и открываю осоловевшие глаза. Тут же вижу над собой прыщавое лицо Рамадана, его слюнявые губы, которые искривляются сейчас в еще более странной гримасе, чем обычно.
— Эй, что ты ходишь у меня по голове, что надо?! — кричу я, а испуганная козочка подскакивает и убегает.
Парень лишь слегка отодвигается от меня. Его широкие штаны спущены до самых колен, и моим глазам открывается гигантских размеров фаллос, с которого капает темно-желтая сперма. Придурковатый парень продолжает его дергать, иногда чешет слегка покрытые волосами большие ядра.
— Ты, блондинка, смотри, что у меня есть, э-э-э… — Он счастливо смеется, показывая при этом источенные кариесом зубы.
— Ради Аллаха, Рамадан, так нельзя, haram, большой haram! — кричу я.
Бросаюсь бегом к дому, хотя солнце еще высоко и до конца работы далеко. Если даже из-за этого у меня будут неприятности, то это все равно лучше, чем находиться с этим возбужденным существом. Может, рассказать кому-нибудь об этом, может, мне поменяют махрама или вообще от него откажутся? Ведь пустыня — это та же тюрьма, только без решеток.
Жду рассвета как спасения. Когда последние капли мочи упали на песок около моего шалаша, выхожу из него, согнувшись пополам.
— Szabani, дедушка, fi muszkila, — шепчу ему в тишине утра.
— Szinu? — Сгорбленный мужчина подскакивает, как если бы не знал, что каждый раз я являюсь свидетелем его утреннего ритуала.
— У меня большая проблема, — признаюсь я, не глядя ему в глаза, — это знак уважения.
— Что опять? — нетерпеливо спрашивает он и хочет отойти.
— Рамадан…
— А-а-а, этот паренек. — Он пренебрежительно машет рукой.
— Он уже стал мужчиной.
— Э-э, где там, что ты рассказываешь, женщина! Это же ребенок.
— Я бы так не сказала. Он обнажается, дотрагивается до своего хозяйства и чего-то от меня хочет.
Старик пристально смотрит на меня, и я чувствую кожей, что он не хочет соглашаться с моими доводами.
— Как ты смеешь! — Его трость ходит по моим плечам, но чувство боли у меня значительно притупилось, и я, не моргнув глазом, преграждаю ему дорогу.
— Это правда, святая правда. Ради Аллаха, клянусь, дедушка. Спросите его, он глупый, но, может, благодаря этому правдивый. — Следующий удар уже полегче и нанесен как бы нехотя.
Старик быстрым шагом идет к дому, а я прячусь в моем шалаше. Потом на протяжении многих часов слышны удары трости и крики наказываемого Рамадана.
Все лето полно святого покоя, семья как будто забыла о моем существовании. Закончилась вся домашняя работа, единственная обязанность, которая у меня осталась, — это выпас коз и овец, но сейчас на отлогие пастбища я хожу одна. Без контроля, без опекуна — может, боятся, что кому-то другому вскружу голову? Кроме того, я начала закупать продукты в городке. Я рада, ведь это единственный контакт с миром, единственная возможность находиться недалеко от автострады, по которой с сумасшедшей скоростью мчатся грузовики, пикапы и частные автомобили. До этого времени никто не останавливался у маленького хозяйственного магазинчика, но, может, когда-нибудь судьба мне улыбнется.
Мой шалаш выглядит сейчас совсем иначе. Овцы и козы загнаны в специальную загородку, остальное место предоставлено мне. Я убираю, подметаю глиняный пол, а водой, принесенной из родника, вымываю его настолько, что смрад помета уже почти исчез. Под конец обрызгиваю все хлоркой, которая здесь служит для дезинфекции. Когда члены семьи заметили мой порядок, начали по-тихому, таясь один от другого, приносить кое-какие вещи. Так мне достался разодранный старый матрас, изъеденный молью плед, подушка со сбившейся ватой, старая покрышка в качестве табурета и обрубок доски, служащей столом. Тут уж не до удобства, но когда хозяйка неожиданно подбросила мне кусок тюля, я почувствовала себя почти как дома. Позже я начала приносить с поля тонкие гнущиеся палочки, чтобы утеплить мое жилище перед наступающей зимой. Сейчас я уже знаю, чего можно ждать в здешних местах от этого времени года, и должна как-то справиться, потому что даже при минусовой температуре никто не впустит меня в семейное гнездо.
Наблюдаю перемены, которые произошли в моем теле. Слава Богу, не вижу своего лица, но ветры высушили мне руки и ноги. Кости покрыты тонкой, обожженной солнцем кожей, на которой расцветают знамена от солнечных ожогов, царапины и шрамы. Я выгляжу хуже, чем когда-либо. После всех передряг мои некогда красивые светлые волосы начали выпадать пучками. Иногда под пальцами ощущаю только кожу, но, когда настал Рамадан, я решила привести их в порядок. Уже никого не буду просить! Одолжила у деда ножницы, чуть ли не единственные в этом доме, и остригла волосы до кожи. Сейчас голову прикрываю платком, как правоверная мусульманка, но делаю это не столько из глубокой веры, сколько для того, чтобы защититься от солнца и насекомых. Если кто-нибудь увидел бы меня завернутой с ног до головы в традиционную ткань, в платке, пластиковых стоптанных тапках, с загорелым, почти коричневым лицом, ему бы в голову не пришло, что это я, Дот, блондинка, европейка чистых кровей.
Худшими были последние судороги лета, когда оно атакует, собрав остатки сил. Ураган gibli долетает до фермы и Триполи, но прежде чем добраться до тех мест, преодолевает более тысячи километров и поэтому значительно слабеет. В центре же Сахары, под горами Акакус, находится его эпицентр. Здесь он рождается, а потому его мощь устрашающе велика; ужасающий зной, который он несет с собой, вырывается, наверное, из какой-то невиданной печи внутри земли.