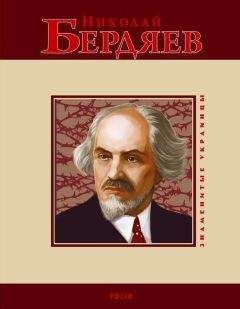Ознакомительная версия.
— заявка от Эсфирь Диамант с приглашением поддержать материально «Еврейские народные гуляния» в исполнении ансамбля «Русские затеи» на ее концерте, в зале «Родина»;
— истеричное открытое письмо Клары Тихонькой (с копиями во все сто восемьдесят семь организаций) с требованием вложить тридцать тысяч долларов в проект пятиэтапного семинара «Будущее Катастрофы»;
— десятка полтора требований из Иерусалима;
— рассылка «Народного университета» Пожарского;
— рассылка Национальной Русской партии Украины;
— рассылка Чеченского Союза борьбы с оккупацией;
— приглашение из Театра Наций на премьеру пьесы Ноя Клещатика «Высокая нота моей любви»;
И, наконец, последнее письмо, которое вывело меня из ступора.
Я смотрела в экран своего компьютера с бессильным изумлением:
Из департамента Розыска потерянных колен мне сообщали, что Вячеслав Семенович Панибрат, 53 года рождения, профессия — водитель, — принадлежит к потерянному колену Гада («Отряды будут теснить его, но Гад оттеснит их по пятам»)…
Нет, подумала я, нет, вот это уж — дудки… Довольно… Славу я вам не отдам…
Потянулась к своему ежедневнику и стала быстро листать его, отыскивая одну бумагу, которая столько времени провалялась у меня, кочуя из одного ежедневника в другой… Где-то здесь она то и дело подворачивалась под руку, а вот сейчас… В нетерпении я перевернула ежедневник, вытрясая из него все записочки, листки, фотографии, квитанции… наконец, сложенный вчетверо лист выпал на стол.
— Маша! — крикнула я, — свяжи-ка меня…
И тут же раздался звонок. Я вздрогнула, — и настолько была уверена в том, кто это звонит, что сама сняла трубку…
— Дорогая, — услышала я знакомый голос, — звоню только за одним: убедиться, что вам прислали приглашение на премьеру моей пьесы, которая с вашей легкой руки…
Нет, не за этим ты звонишь, подумала я, не за этим…
— Ной Рувимович, — проговорила я мягко и решительно, — нам бы стоило повидаться, причем, не откладывая это вдаль. Я ведь скоро уезжаю, и…
— Не говорите, не говорите! — перебил он меня взволнованно. — Вы не представляете, какая это будет потеря для…
— Когда вы сможете приехать?
— Да вот сейчас, — сказал он просто, — я тут паркуюсь у ворот, сейчас и поднимусь…
Я подняла глаза. В дверях стояла взволнованная Маша.
— Валокордин? — спросила она. — Тридцать капель?
— Дурочка. Кофе. И для Ной Рувимыча тоже. И ко мне — никого, пока он не выйдет отсюда.
Норувим был сегодня совершенно по-летнему: светло-серая бобочка, светлые брюки, никакого галстука. И пребывал он — это видно было с порога — в отличном настроении.
Маша принесла кофе, вазочку с конфетами, плотно прикрыла за собою дверь.
— Боже мой, боже мой! — приговаривал Клещатик, разворачивая конфету, — три года пролетело совсем незаметно! Как задумаешься — что есть наша жизнь…
Я не мешала ему разогревать нашу предстоящую беседу. Просто знала — о чем она пойдет. И понимала, что на сей раз буду полновластной хозяйкой ситуации.
— И все это время своим присутствием вы настолько украшали жизнь столи…
— Да, как раз на днях я украсила жизнь одного мента, он гнался на мотоцикле за нашим «фордом», внутри которого — такая оказия! — случайно находился не израильский лектор-психолог, а труп безымянного алкаша. Мы со Славой везли его в морг и нарушили правила дорожного движения…
Ной Рувимыч вытаращил глаза, захохотал, замахал руками:
— Бросьте, бросьте, это вы мне сюжет своего будущего романа…
— …и с этим жмуриком, но уже и с ментом, мы заехали ко мне домой — взять триста баксов, чтобы спасти моего Славу Панибрата, парня отличного, но лихого, может, потому, что — как выяснилось сегодня, — я кивнула на экран своего компьютера, — он принадлежит к колену Гада, отряды будут теснить его, но он оттеснит их по пятам, и так далее… А я бы хотела взглянуть в глаза тому гаду, который…
Оживленная улыбка на лице Ной Рувимыча сменилась озабоченным вниманием. Я не стала продолжать своей тирады. Все уже было сказано. Наступила пауза…
Я люблю такие моменты. В природе — у нас, в Иудейской пустыне — в такие минуты вдруг ощущаешь некий перелом, смену направлений ветра; у нас говорят в таких случаях — «хамсин сломался». И сразу чувствуешь дуновение свежести, облегчение во всем теле, прояснение в голове, — а уж мы-то, астматики, сразу ощущаем сладостную освобожденность дыхания…
Я глубоко и легко вздохнула. Сломался хамсин этих трех лет, тяжкий морок умолчания, отведенных взглядов, сдавленного дыхания, запертых слов и фраз…
И одновременно с этим я ощутила явственное напряжение в воздухе, где-то высоко над головой, словно наши с Ной Рувимычем охранители, покровители наши, насторожились, вскочили и замерли. И каждый нащупал оружие, внимательно следя за малейшим движением соперника.
— Я понимаю вас. — Наконец проговорил Клещатик. — Я ведь знал, что все это время вы собирали сведения по вопросу… по истории…
— Да нет никакого вопроса, — сказала я. — Не существует. И вы, как автор идеи, это прекрасно знаете.
— Вы не правы! — воскликнул он. — Вернее, дело не в этом, не в этом!
Он вскочил и стал ходить по моему небольшому тесному кабинету. Я видела, что он искренен, более того — видела, что он взволнован…
— Послушайте… Когда изрядная часть народа убеждена в Богоданности святых текстов Торы, другая плевать хотела на все святые тексты вместе взятые, а третья часть — историки, лингвисты и текстологи — готовы указать любому интересующемуся периоды, в которые были написаны эти тексты разными авторами… — что это меняет в истории народа, в его религии, в его многотысячелетней традиции? Что это, наконец, меняет в истории и традиции европейских народов, на культуру и нравственность которых наша Тора оказала решающее влияние? Кому сейчас интересно — был ли действительно написан «Екклесиаст» царем Соломоном или кем-то другим, гениальным, или даже несколькими гениальными авторами?
— То есть, — спросила я, — кому интересна правда?
— Вот именно! — запальчиво выкрикнул он. — Ни-ко-му! Она вообще никому не нужна, кроме следователей. А уж в историческом разбеге… я имею в виду сотворение питательной среды мифа, она не нужна ни-ко-му, а уж самому-то народу — в особенности! Подите, разыскивайте обломки разбитых скрижалей под горой Синай, в то время как на наших десяти заповедях основаны все европейские конституции! Кому — через тысячи лет интересно, — что за сброд таскал человек Моисей по той небольшой, в общем, пустоши?
— Ну да, понимаю, — усмехнулась я, — кому через тысячи лет будет интересно — из какого сброда в конце шестого тысячелетия от Сотворения Мира человек Ной возродил десять утерянных израильских колен?
Он осекся, замолчал… Опустился вновь на диван.
— Вы ошибаетесь… — проговорил он. — Не через тысячи, а уже через десятки лет. Лет через сорок-пятьдесят внуки этих людей станут рассказывать, что деды их взошли на корабль, и из далекой России… Станут сочинять про это книги, делать фильмы… писать учебники, наконец…
Я вздохнула, отвернулась к окну, через которое никто так и не выстрелил мне в затылок за все эти три года… И вдруг удивилась все тому же рекламному щиту, словно ожидала увидеть уже за спиной Масличную гору и прочерк шатуна коршуна на пустынном небе…
— Ной Рувимыч, — прервала я его. — Я скоро уезжаю… Давно хотела спросить: ваша редкая фамилия, по крайней мере я не встречала никого еще с такой, — откуда она? Ведь уж вы-то наверняка первым прошли все знаменитые анализы на принадлежность к коленам?
В моем голосе не было ни капли насмешки. Но Клещатик замкнулся, нахмурился, откинулся к спинке дивана.
— Охотно, — отозвался он с вызовом. — Могу рассказать, хоть и знаю, что вы, с присущей вам иронией…
— Никакой иронии! — возразила я. — Более того: хотела вам кое-что показать.
Я развернула листок, который столько времени лежал между страниц ежедневника, кочуя из недели в неделю, из месяца в месяц, из лета в зиму, из осени в весну; старинный брачный контракт, в котором жених посвящал невесте все прелестнейшие имения свои под небом и даже мантию на своих плечах… а я все не решалась свести праправнука с прапрадедом… И вот наконец выпал срок, и подошла тема, — вот как тесто подходит для выпечки хлеба… Или не успевает оно подойти, и тогда мы бежим с ним в другие земли, в другие пустыни, преломляя сухие опресноки и ежегодно обещая себе преломить их в будущем году в отстроенном Иерусалиме, и все-таки вновь и вновь ускользая на обходные тропинки и окольные пути…
— Что это? — спросил Ной Рувимыч, по-прежнему хмурясь, но бумагу взял.
И я, сцепив руки и упершись в них подбородком, принялась жадно рассматривать его лицо, отмечая, следя, ловя эту великую перемену, эту внезапную бледность и разом опавшие щеки, и брови, взлетевшие на лоб, и трепыхание листа в пальцах…
Ознакомительная версия.