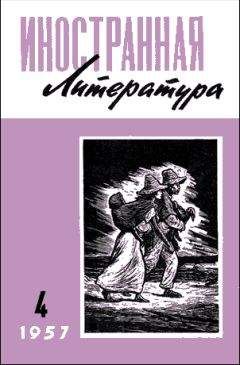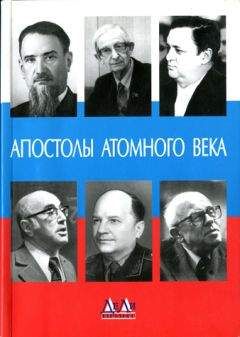Наклонив голову, она сказала Педерсону и Бетси: «Благодарю вас», — и прошла мимо, к лестнице; Дэвид последовал за ней.
Выйдя из дверей больницы, они обогнули здание с той стороны, где в золотистом свете фонаря лежал пруд, миновали пруд и пошли по длинной улице, вдоль которой высилась стальная ограда Технической зоны. Все здесь было залито мощными лучами прожекторов; у ворот стояли часовые; ярко светились окна зданий; нарастали, стихали, сливались друг с другом шумы каких-то неутомимо работающих механизмов; изредка от здания к зданию переходили люди. Тереза и Дэвид шли по другой стороне улицы, они забрели сюда по чистой случайности. Они шли на запад, и наконец Тереза остановилась против здания казарменного вида с верандой по фасаду; из окон доносились звуки музыкального автомата.
— Что это за дом? — спросила она Дэвида.
— Сервис-клуб, — ответил Дэвид, указывая тростью на вывеску сбоку. — Здешний ночной клуб.
— Нам можно пойти туда?
— Можно, но в субботние вечера там очень шумно. Вам это не помешает?
Тереза сказала, что, пожалуй, не помешает, и они вошли. Ни одного свободного столика не оказалось, и они отошли в сторону и постояли немного. Потом Дэвид направился к стойке возле огромного холодильника и вернулся с двумя бутылками пива. Автомат играл не переставая, но компания человек в десять, расположившаяся в конце комнаты, время от времени затягивала песню, заглушая эту механическую музыку. Было полно народу, приходили все новые и новые посетители, и, допив пиво, Тереза и Дэвид ушли.
Дойдя до «Вигвама», Дэвид сказал, что побудет с Терезой, сколько ей нужно, или сейчас же уйдет — как она скажет. Минуту она молчала; просто стояла и словно в недоумении оглядывалась по сторонам. Дэвид увидел, что она вся дрожит, и она сразу же поняла, что он это заметил.
— О, Дэвид! — вскрикнула она и припала к его плечу.
Она рыдала так, что не устояла бы на ногах, если б он не поддерживал ее; он дал ей выплакаться; а потом они еще долго сидели в темноте на террасе, и Тереза говорила о прошлом и о будущем, в которое она еще недавно не осмеливалась заглянуть.
10.Чудесный день был воскресенье — ясный, тихий, насквозь пронизанный солнцем. Весна щедрым потоком разлилась по плоскогорьям, по крутым склонам и глубоким ущельям, она была в птичьих песнях и в цветочной дымке, затянувшей луга. Необъятное небо сияло и светилось, и пик Тручас красовался в сверкающем снежном уборе. Как всегда, на улицу высыпали дети, но сегодня, казалось, игры их были шумнее и голоса звонче обычного. К девяти часам в конюшнях не осталось ни одной лошади. К десяти часам стража у главных ворот отметила, что за пределы Лос-Аламоса выехало больше народу, чем когда-либо во весь этот год.
Но еще раньше, чем пустились в путь любители верховой езды, рыбной ловли и загородных прогулок, Тереза вышла из «Вигвама» и, быстро перейдя через дорогу, вошла в больницу. Никем не замеченная, она поднялась на второй этаж. Медленно прошла по коридору к палате Луиса, увидела Бетси, но никто не обратил на нее внимания, пока она не подошла совсем близко. Бетси посмотрела на нее, отвела глаза, снова посмотрела и покачала головой. Врач, которого Тереза еще не видела, отделился от остальных, тесной кучкой стоявших у входа в палату, и указал Терезе на кресло, стоявшее чуть поодаль, возле стола. При этом он не произнес ни слова; остальные переговаривались почти шепотом, — и она тоже не решилась заговорить.
Она просидела так минут пятнадцать. Все, что она видела и слышала, оставалось ей непонятным. Врачи входили в палату и опять выходили. Прошла мимо Бетси, бледная, с застывшим лицом, но тут же повернулась, подошла к Терезе и остановилась перед нею. Тереза встала; Бетси отступила на шаг и молча смотрит на нее. Она как-то странно покачивает головой — это не отрицание, не утверждение или укор, просто голова как-то странно вздрагивает или трясется, будто помимо воли Бетси; губы плотно сжаты, а на лице самые разные чувства, и ни одно не берет верх. Не похоже, что она сейчас заплачет или заговорит — она просто стоит перед Терезой, и голова ее так странно вздрагивает, а в глазах нестерпимая мука. И Тереза опять садится, вся дрожа от того, что она прочитала в этом лице и взгляде. Она вцепилась в ручки кресла и смотрит в одну точку. И пока она сидит так, за дверью, в палате вдруг раздается громкий, резкий голос Луиса:
— Ненависть! Ненависть!
Это начало бреда, он то обрывается, то возобновляется приступами в течение всего воскресенья. Центр урагана промчался мимо, оставив Луиса во власти бури, и она еще страшнее оттого, что тело его истерзано и обессилено и всякому самообладанию пришел конец. Минутами он говорит связно, часами — без всякой связи и смысла; внезапно умолкает, потом бормочет, потом кричит. Едва это началось, Тереза вскочила со своего места и кинулась в палату. Никто не остановил ее. Она подошла к постели и стала рядом, всматриваясь в лицо Луиса, ловя каждое его слово. Она коснулась его ног поверх одеяла и негромко заговорила с ним, но незаметно было, чтобы он ее услышал. Она наклонилась, положила руку на его обнаженную багровую грудь и снова заговорила, и снова он ничем не показал, что слышит ее. Взгляд его остановился на лице Терезы, скользнул мимо, вернулся к ней и опять скользнул в сторону. Так продолжалось несколько минут, потом Берэн мягко взял Терезу за плечо и хотел увести, но она стряхнула его руку. В какое-то мгновенье, когда она, стоя возле Луиса, тихонько поглаживала его колено, он вдруг успокоился и поднял на нее глаза.
— Родная моя, теперь эти дороги заглохли и одичали!
Но прежде, чем она успела ответить хоть слово, — он уже опять бредил. Он повторял все, что за два дня перед тем говорил Висле, то связно, то обрывками, и еще о многом он говорил. Но едва ли не так же подробно и с явным удовольствием говорил он о вещах, неизвестных и непонятных никому из присутствующих — о каком-то старом тополе, возле которого ему, видно, очень хотелось побывать, о каком-то Капитане, должно быть, приятеле, о спутниках Юпитера и вихрях Декарта, и о том, что все надо свести в единую систему.
— Это очень хорошо, Капитан, это тебе много даст, — сказал он убежденно.
Пришли родители Луиса и его сестра. Пришел Висла, постоял, послушал мрачно и молча, ушел и снова вернулся. То входил, то выходил Дэвид.
Из необъятных межзвездных пространств, из космических глубин к нам долетают неясные звуки — свист, шипенье, потрескиванье, — с бесконечно далеких, подчас неразличимых в этой дали небесных тел. Нет сомнений, что это — своего рода радиосигналы, возникающие в хаосе материи, невнятные голоса вселенной. Никто еще не открыл в них ничего, что свидетельствовало бы о каком-либо порядке и смысле; это, как кажется, просто звуки, приходящие из неизмеримых далей, они тревожат, словно загадка, и на них не может быть ответа. Почти все, что говорил Луис в тот воскресный день, было подобно этим голосам. Он не раскрыл ни единой тайны, касающейся расщепления атомного ядра.
Под вечер он вдруг совсем успокоился и затих и, немного погодя, спросил, где Тереза. Она как раз прилегла в пустой соседней палате. Она тотчас пришла и опять стала возле кровати, как простояла почти весь этот день. Луис посмотрел на нее и тихо покачал головой. Она снова и снова заговаривала с ним, но он теперь не говорил ни слова. Взглядом она спросила Бетси и врачей, можно ли ей присесть на край постели, и они показали, что можно, ибо это уже не имело значения. И она долго сидела подле него.
Точно обломки крушения, что кружат и кружат среди пены и щепок, подхваченные водоворотом после пронесшейся бури, провели они вместе около часа. Потом Луис незаметно впал в бессознательное состояние. Температура поднялась выше тридцати девяти; и все остальные признаки совпадали с тем, что знали и предвидели врачи.
Коматозное состояние, длилось всю ночь на понедельник, весь день, и почти всю следующую ночь. Под утро доктор Бийл перешел из отведенной ему комнаты в небольшое помещение на первом этаже больницы, неподалеку от комнатки, которую до этого превратили в лабораторию доктора Новали; там еще раньше все приготовлено было для вскрытия. Во вторник рано утром Луис умер. Было совсем темно. Солнце еще не успело взойти над бескрайними равнинами на востоке, и вершину пика Тручас нельзя было разглядеть. В окружающем мраке светились только прожектора Технической зоны — там, за высокой стальной оградой, продолжалась секретная работа.
11.Когда выезжаешь из Санта-Фе, одна из дорог, ведущих на юг, сворачивает к западу, на Альбукерк, другая уходит через пустынную равнину на восток; от нее отделяется ветка к Лэйми — полустанку в двадцати милях от города, ради которого эта ветка проложена. Лэйми — это несколько домишек, несколько сараев и складов, две-три лавки и железнодорожная станция. Станционное здание — кирпичный домик в одну комнату для ожидающих поезда — ничем, кроме надписи на деревянной вывеске, не отличается от десятка других маленьких станций на: дорогах, ведущих от Санта-Фе. Лучшее украшение Лэйми — ровная, широкая и длинная платформа, ее совершенство затмевают лишь дизельные электровозы, которые со сдержанным рокотом подкатывают к ней трижды в день — во всяком случае, так бывало прежде, — волоча за собой длинный хвост блестящих металлических вагонов. Когда стоишь на платформе, поезд, идущий с запада, виден еще издали; поезда, уходящие на восток, быстро скрываются среди крутых отрогов хребта Сангре де Кристо, примыкающего с юга к пику Тручас.