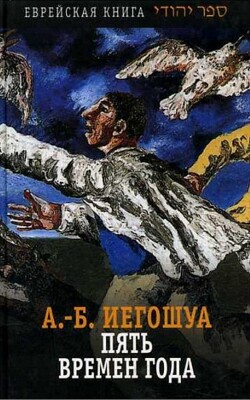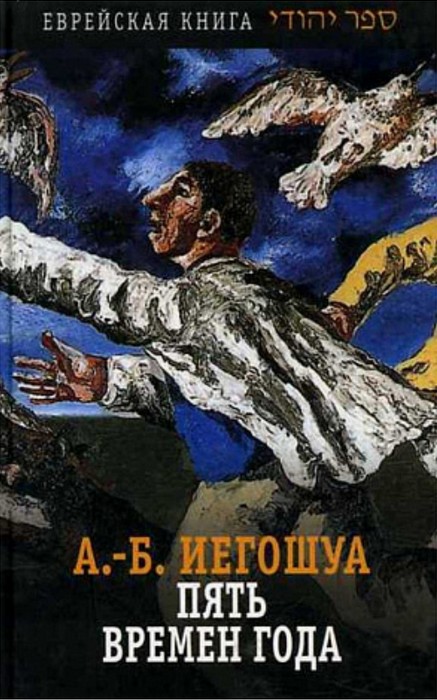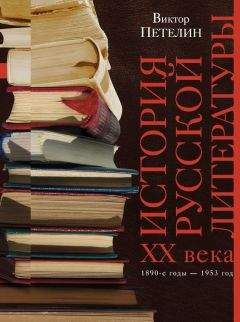Легкий и бесшумный дождь висел в воздухе, словно кружево, протянутое между небом и землей; и Молхо ускорил шаги, пока не дошел до какого-то рыбного магазина, местоположение которого показалось ему таким неподходящим, что единственно разумное объяснение этого могло состоять в том, что этот магазин находился здесь издавна. На кусках колотого льда лежали серебристые, серьезные рыбы, а внутри, возле большой керамической ванны, сидела грузная женщина, равнодушно посмотревшая на него через окно. Интересно, это ее собственный магазин или она всего-навсего продавщица на жалованье? Кто знает? Впереди он увидел большое здание, замыкавшее улицу, у входа висели сразу три таблички с тремя разными номерами. Он снова пожалел, что не спросил у тещи номер дома. Перейдя улицу, он пошел обратно по противоположной стороне, все той же замедленной, неспешной походкой выздоравливающего человека, снова поравнялся с рыбным магазином, заметил следы пуль на его стенах, пошел дальше, присматриваясь внимательней и замечая такие же следы войны на стенах других домов. Внезапно ему подумалось, что из какого-нибудь окна могут увидеть, как он ходит, что-то высматривая. Явный чужак, который притворяется случайным прохожим. «Хватит с меня, что я нашел эту улицу и прошелся по ней, — сердито подумал он. — Я же не йеке, чтобы доискиваться мельчайших деталей!» Но ему почему-то все равно хотелось увидеть ее дом, то место, где она жила и росла до того самого дня, как ее отец покончил жизнь самоубийством. «Ведь почти целый год, — размышлял он с горечью, — я, как управляемый на расстоянии робот, занят ею, продолжаю думать о ней, продолжаю ухаживать за ней, хотя не могу к ней даже прикоснуться. Но нет, трудно предположить, что именно здесь и сейчас я от нее освобожусь. А может, все-таки положиться на интуицию — самому выбрать дом и войти в него?»
Он боялся, что, вернувшись, наверняка привлечет к себе еще более настороженное внимание, и поэтому решил направиться прямиком к станции метро. Но что-то в нем упорно сопротивлялось этому решению, и он, словно против собственной воли, свернул в боковую улицу, которая показалась ему более оживленной — возможно, из-за детей, возвращавшихся из школы, — обнаружил здесь маленький писчебумажный магазин, который почему-то вселил в него новую надежду, и вошел туда, сопровождаемый звоном колокольчика, который извещал о приходе каждого нового посетителя. «Это старый магазин, рассуждал он про себя, — вполне возможно, что она могла покупать здесь карандаши и школьные тетради». Витрины в магазине не было, весь товар был разложен прямо на стойке, за которой стояла продавщица. Он наметил себе два сувенира: карандаш и записную книжку, — достал из кармана бумажку в десять восточных марок и терпеливо, молча ждал своей очереди, стоя среди негромко разговаривающих светловолосых детей. Позади него снова звякнул колокольчик и вошла новая группа — на сей раз это были школьницы, среди которых он сразу приметил высокую светленькую девочку в больших, не по размеру, очках и в старом сером плаще. Ее печальный взгляд словно вонзился ему прямо в сердце.
Он молча указал продавщице на выбранные им предметы, утвердительно покачал головой, когда она дала ему то, что он просил, получил сдачу в виде огромного количества мелочи, вышел из магазина, подождал, пока девочка в очках тоже выйдет, и пошел за ней на безопасном расстоянии, уже не медленным шагом выздоравливающего, а свободной, лишь слегка раздумчивой и даже чуть веселой походкой, готовый, однако, в любой момент остановиться и повернуть. Девочка дошла до угла и уверенно повернула на «его» улицу. Молхо пробрала дрожь.
«Все, дальше я не пойду, — сказал он себе. — Я сделал для нее все, что мог, и даже сверх своих возможностей. Я ухаживал за ней вплоть до ее смерти. Но если она по-прежнему тянет меня за собой, мне пора подумать о себе. У меня есть дети, и они еще нуждаются в отцовской помощи, и старая, больная мать в Иерусалиме, и теща со сломанной рукой, которой нужен уход. Даже у нас, в демократической и свободной стране, наверняка подозрительно посмотрели бы на пожилого мужчину, к тому же недавнего вдовца, который так настойчиво преследует незнакомую девочку на пустынной улице, под все усиливающимся дождем». А она уже и впрямь как будто почувствовала, что кто-то идет за ней, потому что вдруг повернула к нему голову — он увидел, как сверкнули в темноте ее очки, остановился и с показным равнодушием проследил за тем, как она вошла в подъезд своего дома. Но то было именно показное равнодушие, потому что он тотчас постарался запомнить, в какой именно подъезд она вошла. «Почему бы мне не предположить, что это и есть бывший тещин дом? — сказал он себе. — И не войти в него? Может быть, этого мне, наконец, хватит?»
30
«Ведь я никогда здесь не жил и не лежал здесь месяцами у окна, чтобы в конце концов все-таки родить мертвого ребенка, — думал он. — Что же я стою тут и смотрю в тоске? Ведь я никому ничего не должен!» И тем не менее он продолжал идти вперед, попутно примечая совершенно неестественную кривизну улицы, по которой шел, словно эта улица была когда-то разрушена — возможно, при обстреле — и потом неправильно срослась, как рука при переломе. Он все еще не мог произнести ее название, но изо всех сил старался запомнить составлявшие его буквы. Прошло каких-нибудь полчаса с того времени, как он встретился с той пожилой женщиной возле метро, а он уже промок насквозь и чувствовал, что ему пора поискать хотя бы временное укрытие. Если эта девочка в очках тоже вошла сюда только для того, чтобы укрыться от дождя, он просто постоит с ней рядом — спокойно и молча. Он подошел ко входу — старый дом, казалось, знавал лучшие времена, и, если эти царапины на его стенах — тоже следы пуль, были все основания думать, что он стоял здесь еще до войны. В подъезде висели несколько почтовых ящиков, но было слишком темно, чтобы прочитать фамилии, и он открыл дверь на тускло освещенную лестничную клетку, обнаружив, к своему удивлению, решетчатую шахту лифта и в ней — маленькую красную кабину, больше похожую на клетку для животных. «Да, это их дом!» — перехватило ему горло, как будто кто-то подал ему неожиданный указующий знак. На его глазах темная кабина осветилась и, хрипя, как раненое животное, поползла вверх, волоча за собой злобный хвост толстого кабеля.
Он ждал, что лифт вернется, но тот оставался наверху, как будто тот призрак или привидение, что вызвало его туда, изменило свои намерения. Поэтому он вызвал его сам. Далеко вверху что-то жутко затряслось, заскрежетало, И появился серый, медленно заворачивающийся кабель, за ним показалась кабина лифта, и Молхо вошел в эту зловещую, багровую клетку, закрыл за собой дверь, нажал на кнопку и стал смотреть через решетку на проплывавшие мимо него двери квартир — когда-то, давным-давно, одна из этих дверей распахнулась и оттуда вышла девочка в больших очках, которая утратила веру в человечество после самоубийства отца; вышла, чтобы уехать в Израиль и в конце концов встретить Молхо в Иерусалиме. «Неужели я действительно ее убил?» Лифт остановился, он вышел и стал искать дверь без фамилии, но такой здесь не было — на каждой двери было несколько имен. Он постучал наугад. Ему ответила тишина, потом раздался скрип стула, который подтаскивали к двери, и кто-то, став, видимо, на стул, чтобы дотянуться до замка, приоткрыл дверь, оставшуюся на цепочке. Это был очень маленький мальчик. Он смотрел на Молхо широко открытыми глазами, с бесконечной серьезностью ребенка. В приоткрытую дверь Молхо увидел коридор, большие комнаты, простую мебель, открытые окна за слабо шевелящимися занавесками. «Доктор Штаркман?» — спросил Молхо. «Доктор Штаркман?» Ребенок очаровательно сморщил лобик, как будто и в самом деле пытаясь припомнить человека, который покончил с собой в этой квартире пятьдесят лет тому назад. Потом дверь начала медленно закрываться. Молхо слегка придержал ее, словно хотел дать время отойти взрослому, если он за ней скрывался, потом отпустил — дверь захлопнулась, и он быстро спустился по лестнице, вышел на дождливую улицу и торопливо направился к станции метро. На Александерплац он поднялся уже в полной темноте, радуясь снова увидеть эту площадь, как что-то давно ему знакомое.