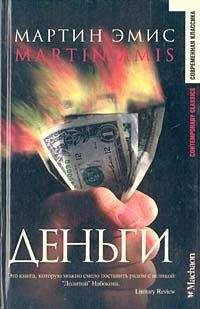— Цугцванг, — проговорил он.
— Это что еще за хрен?
— В буквальном переводе это значит «обязан ходить». То есть, проигрывает тот, чей ход. Если бы сейчас ход был мой, вы бы выигрывали. Но ход ваш. Так что вы проигрываете.
— Игра случая. Дуракам везет.
— Едва ли, — ответил он. — Оппозиция — тоже своего рода цугцванг, когда взаимоотношение между королями становится регулярным. Бывает, правда, и косая оппозиция, и коневая. В теории композиции есть такое понятие, этюды на тему полей соответствия. Дело в том...
Я зажал уши. Мартин продолжал говорить — призрачный, вощеный, с рябью на лице. Не знаю, услышал ли он мой новый голос, или тот звучал лишь у меня в голове, но я произнес:
— Я посмешище. Посмешище! А ты... Это все ты.
Я и не заметил, как первый раз замахнулся, — но он заметил. Он пригнулся или шмыгнул в сторону, или резко отклонил корпус, и мой кулак врезался в бра у него над головой. Крутнувшись по широкой дуге, чтобы вмочить тыльной стороной руки, я споткнулся о низкий стул, ребро спинки которого угодило мне под дых. Вскочив, я замолотил воздух, как мельница. Я метался по комнате, как большая обезьяна в маленькой клетке. Но ни одна плюха не достигала цели. Черт побери, да его тут просто нет, просто нет. Последний удар поверг меня ниц возле носорожьего дивана, который пнул меня прямо в лицо своим квадратным, окованным железом, ботинком. Нарыв у меня в голове лопнул или вскрылся. Комната накренилась, забурилась и с реактивным свистом унеслась в ночь.
Когда я очнулся, Мартин по-прежнему был в комнате и по-прежнему говорил.
Когда я очнулся, Мартина уже не было, и не доносилось ни звука.
Как только рассвело, я вышел на улицу в последний раз. Потом вернулся. Что тут еще скажешь? Чихающий полицейский, скорбный регулировщик движения, лысый чернокожий почтальон в кроссовках. И люди, один за другим, движущиеся курсом ночь — день по своим привычным делам. Потом я вернулся. Ну что тут еще скажешь? Что?
Я выставил в ряд бутылки скотча, выложил мартинины транквилизаторы и еще сорок таблеток из моей кухонной аптечки. Набросал записку самоубийцы, на этот раз коротенькую. Она гласила: «Дорогая Антония, пожалуйста, не заходи в спальню. Отправляйся домой и позвони в полицию. Прошу прощения, что задолжал. Прошу прощения за весь бардак». Горстями засыпал в рот таблетки и проглотил. Эффект был на удивление быстрый. Сначала туман клубился, словно любовь, да-да, словно любовь, какой на этом свете не сыщешь, и я залился слезами и произнес:
— Ну давай. Возьми меня. Поскорее, ну давай же.
Но потом я ощутил последний прилив стыда. Вся жизнь моя была анекдотом. Вот смерть— это будет серьезно. Потому, наверно, я так и боюсь... Дружище, не надо брать с меня пример. Пожалуйста, сестренка, попробуй как-нибудь иначе. Скоро нас обоих не будет. Давай напоследок подрожим вместе от страха. Дай руку. Чуешь дрожь...
Декабрь, январь. 1981, 1982.
Угадайте что. Я тут давеча концы чуть не отдал. Угу. Был, можно сказать, на волосок от гибели. Кто виноват? Ну конечно. «Фиаско». Рассекаю это я себе милях на двадцати пяти в час. Хотя, если подумать, вряд ли скорость была выше двадцати или пятнадцати. Холодная погода «фиаско» не по нраву. Жаркая тоже, да и дождливая. Честно говоря, «фиаско» почти всегда подкладывает свинью, если нужно куда-нибудь ехать. При всех его достоинствах, проехать без затей из пункта А в пункт Б — это не из репертуара «фиаско». Больше всего ему нравится — и в этом он настоящий профессионал — торчать на месте... Глубокие слякотные колеи основательно избороздили магистральные трассы. Такая дорожная обстановка машинам наиболее ненавистна, скорость движения определяется скоростью самого медленного, тысячного звена: после вас, только после вас. Я резко вильнул вправо, решил на пробу срезать, откромсать от внешнего ряда новый ломтик. Не исключено, что до «фиаско» никто по этой улочке сегодня еще и не ездил. На вид асфальт казался мокрым, а по ощущению сухим. Я рванул к перекрестку, тронул тормоз и очутился на идеально гладкой стремнине черного льда. Микросекунду или две я даже ощущал удовлетворение от того, что «фиаско» решил наконец себя показать. Вернувшись волею заклинивших колес на предыдущий этап в развитии транспорта, мы как на санках скользили по улице игрушечного городка. Ух ты, подумал я. Дальше-то что?
Мы вылетели на широкую улицу, со скоростью звука, скоростью вопля, только вопля никто не слышал. А улица такая цивильная! Изумленно фыркнул толстый автобус. Кто-то сделал сальто через руль велосипеда. С дребезгом содрогнулся, с лязгом тормознул молочный фургон. «Фиаско» вполоборота развернулся на своих полозьях и боком пропахал слякоть по направлению к машинам, припаркованным у противоположной обочины. Я беспомощно боролся с рулем. Словно корабль к пристани, «фиаско» вплыл в узкую бухточку и со скрежетом замер — видимо, надолго.
Я выбрался наружу. Улица замерла столбом и хлопала глазами. Я кинул монету в счетчик парковки, зашел прямиком в распахнувшую мне двери «Принцессу Диану», заказал двойной скотч и тяжело облокотился на стойку, в шоке от воображаемых ран. Господи Боже. Чуть ведь концы не отдал.
В Лондоне Рождественские праздники. Рождественские праздники — это время, когда мелочь из рук таксиста кажется раскаленной, словно монеты, извергнутые недрами однорукого бандита, когда конторские крысы пытают счастья в роли кабацких остряков и за длинными столами дешевых бистро, когда в застывшие предновогодние дни люди хвастают перед всем миром своими подарками в автобусах и поездах метро: воротнички охватывают шею, как холодный компресс, перчатки лежат на коленях, окоченевшие, как маринованные осьминоги, блестят в наемном свете часы и авторучки. Рождественские праздники — это время, когда все девицы воркуют, как мол все «мило» и «чудесно».
Первый в этом году снегопад вызвал замешательство, бардак и анархию, как и каждый год. Всю неделю я бродил по лондонским улицам и никак не мог взять в толк, на что они похожи. Что-то до ужаса знакомое. Люди вихляются на своих дефектных гироскопах. С гиканьем топчут испещренную следами копыт парчу. Мы смотрим под ноги, чтобы не споткнуться, но вряд ли скажем, что видим под ногами. Минут пятнадцать снег был скрипуче-белым, хрустяще-чистым. А потом — совершенно бесцветным, даже не серым. На что это похоже? С грязной накипью и запруженными канавками то мути, то блеска, этот снег похож на полный отстой, на лондонское небо. Летнее лондонское небо — вот на что похожи зимние улицы. Точно же, на летнее небо. Так что, опять двадцать пять?
Второй в этом году снегопад вызвал замешательство, бардак и анархию, как и каждый год. Второй снег оставался белым и крепким гораздо дольше, чем первый. Второй снег был куда качественнее — видно, и стоил дороже. Как и каждый год, снег свалился как снег на голову. Все удивились. Я удивился. С другой стороны, удивительная все-таки штука снег. На какое-то время пейзаж: сделался совершенно лунным. Стало тихо. Пока наутро тишину не нарушил извиняющийся шепот смущенных автомобилей. На цыпочках мы вышли на улицу и завертели головами, щурясь и моргая. Можно подумать, каждый считает, что он в ответе за все. Но порой мы все-таки воздаем себе должное.
Кстати, о долгах. В которых я как в шелках. Не подскажете часом, где можно снять квартиру подешевле? Не одолжите немного денег — до четверга? Я верну. Честное слово, верну. Мартин был прав. Как всегда, до меня дошло последним: мои адвокаты наконец установили, кто финансировал всю психодраму, от закусок до десерта, от "а" до "я". Я и финансировал. Дурачина-простофиля. Блин! Почему я не прочел ни одной бумажки из всего, что он мне на подпись подсовывал? Ну как слепого щенка обвели, честное слово! Впрочем, он сумел очаровать еще кучу народу, всем пыль в глаз пустил; у меня есть доказательство, потому что восемь или девять из них подавали на меня в суд, в том числе Лорн Гайленд, Кадута Масси, Лесбия Беузолейль и Давид Гопстер. В конце концов я обзвонил всех четверых и честно поплакался в жилетку. Свой иск Кадута отозвала довольно быстро, но чисто в психологическом плане с ней оказалось тяжелее всего.
— Я, давшая тебе... но зачем, Джон? Зачем? Ну скажи, зачем? Зачем? Зачем ты так с родной... ну зачем?
Будь у меня по пятицентовику на каждое кадутино «зачем?», я бы не сидел в этой заднице. Ответа я так и не знаю. Зато Лорн меня приятно удивил. Он был спокоен — и благожелателен — как никогда.
— Ничего, Джон, — сказал он мне, — это бывает.
Ой ли?
— Сплошь и рядом, Джон, — заверил он меня.
Ой ли? Да неужто? С Гопстером, как и следовало ожидать, проблем не возникло. «Троглодит» сделал в Нью-Йорке большие сборы, и Гопстера подписали на серию романтических комедий. Не исключено, что вы о нем слышали, — теперь его звать Дэвид Родстер. А вот его давешняя подружка Лесбия Беузолейль, напротив, жаждет моей крови. Хоррис Толчок мучает меня ежедневно — не по телефону, так по почте.