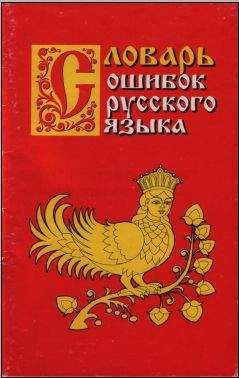Чтение некоторых работ Шапиро навело меня на мысль, что в Феликсе Львовиче остался нереализованным талант писателя, может быть, драматурга. Его исторический очерк о старом и новом хедере в Бобруйске можно ставить на сцене, например, в жанре хасидского мюзикла. Жаль, что на бумаге я не могу доказать вам этого... По словам Володи Престина, дед так увлекательно и живо, вместо русских народных сказок, рассказывал ему истории из Танаха, что оживал каждый рисунок Гюстава Доре.
Не скрою, мне приятно думать, что многие тысячи репатриантов узнали о личности автора уникального словаря из моей давней радиопередачи, которую по просьбам радиослушателей неоднократно повторяли. Но, выразив надежду, что в честь 30-летия выхода в свет словаря (1993) будет организован специальный вечер, я не предполагала, что дочери автора словаря, Лие Феликсовне Престиной, удастся в короткий срок организовать такой вечер в Беер-Шеве. Зал был переполнен. Затем подобные вечера прошли в других городах.
И, наконец, мне удалось установить факт, о котором не знал никто из родных Феликса Львовича. Оказалось, что он писал стихи. Уезжая в Израиль, Рахель Марголина оставила у близких знакомых пакет, обозначив его кодом «Японская шкатулка». Кто бы ни был, сказала она, если он придет в их дом и произнесет слова: «Японская шкатулка», — ему можно отдать этот пакет. В 1965 году сестре Рахели, Ципоре (она жила в Израиле), удалось съездить в Москву. По просьбе Рахели Павловны она встретилась с К.И.Чуковским. О второй просьбе вы уже догадались. Что же хранилось в таинственной шкатулке? В ней были письма погибшего на войне сына Рахели Марголиной и... стихи Феликса Львовича, обращенные к ней самой и написанные на иврите. Он писал их в 1960 году, за год до своей смерти. Рахель Павловна бережно хранила его стихи до последнего дня своей жизни. Когда на ее могиле (она ушла из жизни в 1971 году) ставили памятник, тот же друг, что годами хранил «Японскую шкатулку», только что сам ступивший на землю Израиля, положил в его подножие горсть земли, привезенной с могилы Шапиро, с подмосковного Востряковского кладбища. Но где же мне искать эти стихи? Из четырех сестер Марголиных в живых осталась только Кция Павловна, но она приехала только в 1973 году и понятия не имела, о чем речь. Стихи, видимо, оставались у сестры Ципоры. Однако и ее уже нет на свете. Из всех родственников я выбрала ее сына, может, потому, что он учитель. Авремеле (так все называют Авраама) удивился моей просьбе поискать в архивах покойной матери пакет со стихами на иврите. «Какие стихи! Никаких стихов у меня нет». Как в детективном фильме, я попросила его на всякий случай записать номер моего телефона. Через две недели звонок. Авремеле строго спросил, кто я такая и почему мне известно, что хранится в его доме. «Как вы узнали, что стихи именно у меня?». А я, еще не веря удаче, ответила как герой Шолом-Алейхема: «Вычислила». Он был поражен. Он их нашел. И, не доверив почте, привез мне их сам, из Кирьят-Гата в Тель-Авив. Так мы узнали, что Феликс Львович на старости лет не просто увлекся, но и полюбил, был по-юношески влюблен в свою верную помощницу, умную, преданную, благородную и красивую Рахель Павловну Марголииу. Вот они, эти узкие листочки тугой желтоватой бумаги со столбиками стихов на иврите, написанные его рукой...
Вэ шув мешорэр ани
(И снова я поэт)
Рэитих, шматих, ахавтих
хальфа вэ эйнена сэйвати
ле хаим цаирим шавти
ми йом ше пгаштих ла-ад ахавтих...
(Я видел тебя, слышал, любил,
Про седины свои забыл,
И в день нашей первой встречи
Стал вновь молодым — навечно...
Безбожники утверждают,
Что нет Б-га на небе,
А женщина, что свила гнездо
В моем сердце, в моей душе, в моей крови —
Откуда взялась, если не с неба?
) הופיעה מאין ולא משמי שמיים?)
(Хофия меайн вэ ло мишмей шамаим?)
Он называет ее ангелом, находит в ней прелесть и царственность... И сравнивает себя с Фаустом, к которому вернулась юность.
אם בשר ודם ככל האנשים
איך נפחה בי, הזקן שבזקנים
שחר עלומים
ואש נעורים?
(Если она из плоти и крови, как все люди,
Как ей удалось вдохнуть в меня, старца из старцев,
Рассветную зарю,
Огонь юности?)
И он заканчивает:
Элохим ешно
אלוהים ישנו
Вэ хи – малахо
והיא מלאכו
(Есть Б-г,
И она — его ангел).
Одно стихотворение называется «Иллюзия», другое «Рахель», третье «Моя молитва!» Рахель собирается в Израиль, он рад за нее, но страдает и ревнует, и негодует: как же она оставляет его? Но она уедет только в 1963 году, через два года после его смерти.
Может, это и не стихи вовсе, а одна сплошная молитва: «Дай мудрость ее сердцу. Ведь была же она счастлива моей любовью. Здесь, в Галуте галутов. Нет! Вырваться, взойти в Сион!.. А я, а меня?.. Господи, приди мне на помощь!»
Какие сильные чувства! Какая искренность! Отвечала ли ему взаимностью скромная и сдержанная Рахель?
Пусть это останется тайной. Но одну тайну мне, кажется, удалось разгадать. Я без конца вглядывалась в каждую букву, изучала, переписывала, сравнивала, переводила эти стихи и как-то не задумывалась, подписав два из них словом נפ"ש (нефеш — душа), он между פ и ש поставил апостроф, и вдруг меня осенило: он закодировал в подписи Ф и Ш — начальные буквы своего имени, на это Лия Феликсовна среагировала: а ведь папу звали Натан-Файтель Шапиро, но этого почти никто не знал.
Он был бы рад узнать, что вся его семья здесь, в Израиле. Что его правнук Миша защитил докторат на земле Израиля. Что у него много правнуков. И что его дочь, Лия, сделала все, чтобы память о нем сохранилась в наших сердцах и в истории еврейского народа.
МОЯ ТЕТЯ РАХЕЛЬ МАРГОЛИНА
Юдифь Ратнер, Реховот
В послевоенные годы я почти все каникулы и выходные проводила у моей тети Рахели. Она работала учительницей и была свободна в каникулы. Мама отправляла меня к тете, чтобы помочь ей справиться с одиночеством и подавленностью, охватившими Рахель после того, как с фронта пришло сообщение о гибели ее единственного сына Муни.
Рахель Павловна Марголина жила возле еврейского театра на Малой Бронной в коммунальной квартире с высоким лепным потолком. Два окна ее комнаты смотрели на улицу и школу, где до войны учился Муня. В темной каморке у самой кухни проживала горбатенькая Маша, которая до войны была няней Муни, а потом служила консьержкой в подъезде. Вместе с тетей она оплакивала своего питомца. Несмотря на огромную разницу в образовании, женщины поддерживали друг друга, помогали справиться с бедой. Тетя была тогда на грани самоубийства, ни с кем не общалась, не подходила к телефону, не могла есть. Жизнь потеряла для нее всякий смысл.
В 1955 году Рахель Павловна обратилась в ОВИР с просьбой о воссоединения со своей матерью и сестрами, переписку с которыми никогда не прерывала. Однако ответа не получила: подобные ходатайства просто не рассматривались в те годы. У нее дома собирались молодые люди, причем не только те, кто хотел побольше знать об Израиле: они читали и самиздат, и литературные новинки — словом, там царила интеллектуальная атмосфера. Моя тетя ожила, но красивые библейские глаза были грустными, взгляд потухшим — казалось, она никогда не станет такой, как прежде. В середине 50-х, в мои студенческие годы, я реже навещала тетю — как правило, перед концертом в консерватории или возвращаясь из кинотеатра повторного фильма у Никитских ворот.
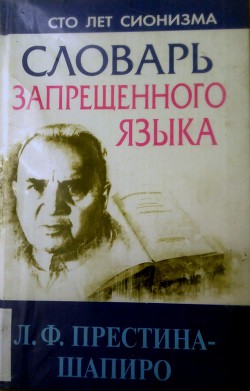
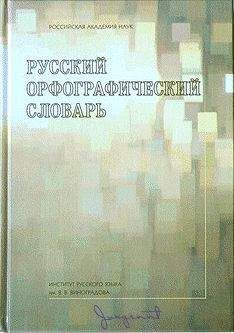
![Владимир Лопатин - Русский орфографический словарь [О-Я]](https://cdn.my-library.info/books/249533/249533.jpg)
![Владимир Лопатин - Русский орфографический словарь [А-Н]](https://cdn.my-library.info/books/247008/247008.jpg)