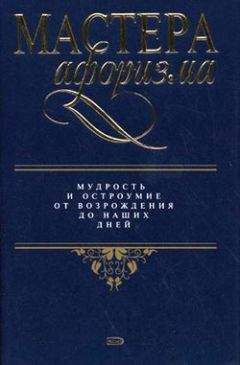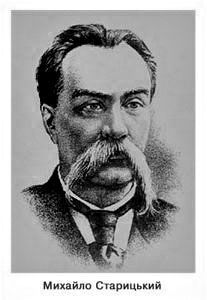«Здесь покоится прах человека, который жил, как мудрец, а умер, как дурак».
Кардинал Ришелье, желая поторопить издание академического словаря, восстановил пенсию, которую прежде получал главный редактор словаря Водиеля. Тот, разумеется, явился благодарить кардинала.
– Ну, вы, конечно, не забудете поместить в словарь слово «пенсия»? – сказал ему кардинал.
– О, конечно, – отвечал Водиеля, – особенно же не забуду слово «благодарность».
Однажды Ришелье был у себя в замке, и все окрестные деревни и местечки послали депутации, чтобы его приветствовать. Между прочим, прибыл также депутат от городка Мирбале, который славился ослиной ярмаркой. В свите кардинала был один дворянин – рыжеволосый мужчина огромного роста, человек грубый и дерзкий и вместе с тем большой льстец и угодник. Ему захотелось позабавить кардинала за счет злополучного депутата из Мирбале, и вот, в то время как этот человек говорил свою приветственную речь, рыжий великан вдруг без церемонии прервал его громким вопросом:
– Почем у вас продавались ослы во время последней ярмарки? Оратор прервал свою речь, оглядел обидчика и ответил ему:
– Такого роста и такой масти, как ваша милость, продавались по 10 экю.
Затем, как ни в чем не бывало, спокойно продолжал свой спич.
Чувствуя приближение смерти, кардинал Ришелье упрашивал своих врачей сказать ему с полной откровенностью, что думают они о его состоянии и сколько времени, по их мнению, ему остается жить. Но они отвечали ему лишь одной грубой лестью: такая, дескать, драгоценная жизнь должна возбуждать участие самого неба и что Бог сделает чудо, чтобы спасти ее. Раздраженный этой галиматьей, Ришелье призвал к себе королевского лейб-медика Шико, человека прямого и простого. Он умолял его ничего не скрывать, сказать истинную правду, может ли он рассчитывать на выздоровление или ему следует готовиться к смерти. Шико, человек умный, дал ему хоть и не прямой, но достаточно ясный ответ:
– В течение двадцати четырех часов вы либо выздоровеете, либо умрете.
Кардинал был совершенно доволен таким ответом, он понял истину и горячо поблагодарил Шико.
Главным адвокатом парламента во времена Ришелье был Толон, человек очень невзрачный и тупоумный. Однажды он, в присутствии короля, возносил в своей речи до небес кардинала Ришелье, но говорил так неловко, что после заседания кардинал сказал ему:
– Толон, вы сегодня ничего не сделали ни для себя, ни для меня.
Кардинал Ришелье был чрезвычайно тщеславен. Ему ловко дал это почувствовать епископ Камю. Ришелье предлагал ему богатое аббатство, Камю очень благородно отказался от этой милости.
– Ну, знаете, – сказал ему Ришелье, пораженный его бескорыстием, – если бы вы не писали раньше так много резкого против монашества, я готов был бы причислить вас к лику святых.
– О монсиньор, – отвечал ему Камю, – пошли Бог, чтобы я заслужил честь быть причисленным к лику святых, а вы имели бы власть делать святых, мы оба были бы этим довольны.
Ришелье родился в 1585 году, а в 1607 году он был в Риме и принял от папы посвящение в епископы. Но папа усомнился, достиг ли он положенного для епископства возраста, и прямо спросил его об этом. Ришелье нимало не колеблясь уверил папу, что он этого возраста достиг. Потом, когда посвящение уже состоялось, он признался в своей лжи и просил папу отпустить ему этот грех.
– Этот молодчик будет большим мошенником, – предсказал прозорливый папа Павел V.
Ф. Жерар. Первый министр Франции Арман Жан дю Плесси, кардинал Ришелье
В заговоре против Ришелье, задуманном Сен-Марсом, был, между прочим, замешан некто Фонтраль, очень маленький и горбатый человек, славившийся своим острым умом. Он вовремя почуял опасность, узнал, что заговор не удастся и будет обнаружен. Он сообщил свои опасения Сен-Марсу и тут же подал мысль, что, дескать, пора наутек, пока еще есть время. Но Сен-Марс и другие заговорщики упорно отказывались бежать. Тогда остроумный Фонтраль сказал им:
– Друзья мои, вы люди высокого роста, статные, так что когда у вас поснимают головы с плеч, то от вас еще кое-что останется, и даже очень достаточно. Я – другое дело; вообразите себе мою фигуру без головы! Что из меня выйдет, из такого урода? Поэтому вы оставайтесь, а уж я дам тягу!
И он вовремя успел улизнуть.
Генрих VIII, влюбившись в Анну Болейн, испытывал, несмотря на всю свою бесцеремонность, некоторые сомнения и угрызения совести. Дело в том, что Анна была его незаконная дочь. Желая до некоторой степени успокоить свою совесть, он обратился за советом к одному придворному, родственнику Анны, по имени Брайан.
– Не знаю, – говорил ему король, – могу ли я взять дочь, после того как мать принадлежала мне?
– Помилуйте, государь, – отвечал ему покладистый царедворец, – ведь это все равно что вы добивались бы позволения скушать цыпленка после того, как скушали курицу.
Когда Гольбейн был придворным живописцем англий ского короля Генриха VIII, случилось однажды, что какой-то лорд стал очень бесцеремонно ломиться к художнику, и тот, в горячности и раздражении, спустил его с лестницы. Оскорбленный лорд пожаловался королю и грозил убить Гольбейна.
– Милорд, – сказал ему король, – я запрещаю вам покушаться на него с риском для вашей собственной жизни. Знаете ли вы, какая разница между вами и Гольбейном? Я могу взять сейчас семь мужиков и сделать из них семь графов, таких же, как вы. Но из семи графов, таких, как вы, я не могу сделать и одного Гольбейна.
Генрих VIII поссорился с французским королем Франциском I и решил отправить к нему чрезвычайного посла, который должен был передать Франциску гордые и грозные слова своего повелителя. Для этого надо было выбрать человека очень смелого, решительного, способного открыто рисковать своею свободой и даже жизнью. Выбор Генриха пал на епископа Боннера, которого он знал за человека не робкого десятка, и притом такого, на которого можно положиться. Когда епископ выслушал от короля все, что должен был сказать Франциску, он заметил, что говорить такие речи такому королю, как Франциск, – вещь в высшей степени рискованная.
– Вам бояться нечего, – успокаивал его Генрих, – если французский король предаст вас смерти, я снесу немало французских голов, которые находятся у меня в Англии в полной моей власти.
– Это так, государь, – возразил Боннер, – но дело-то в том, что ведь из всех этих французских голов не отыщется ни одной, которая была бы столь же хорошо пригнана к моим плечам, как моя собственная.
При дворе Людовика XIV был один вельможа, чрезвычайно тщеславный, всеми мерами добивавшийся всяких почестей и отличий и, конечно, глубоко уверенный в себе. Король знал его нрав и однажды жестоко подшутил над ним.
– Вы знаете испанский язык? – спросил он его совершенно неожиданно.
Царедворец мгновенно вообразил, что король наметил его в испанские посланники; но испанского языка он не знал и должен был на вопрос короля ответить отрицательно.
– Жаль, – заметил король.
Это «жаль» окончательно укрепило честолюбца. Он немедленно засел за испанскую грамматику, занимался с величайшим усердием и спустя некоторое время почтительно доложил королю, что теперь он хорошо знает испанский язык.
– Вот это хорошо, – подхватил его король, – значит, вы теперь можете прочесть «Дон-Кихота» в подлиннике.
Отпуская одного своего посланника, Людовик XIV говорил ему в напутствие:
– Вот вам главное правило, которого вы должны держаться в исполнении возлагаемого на вас поручения: поступайте во всем прямо противоположно тому, что делал ваш предшественник.
– Государь, – отвечает ему посол, – постараюсь вести себя так, чтобы вам не пришлось давать такого же наставления моему преемнику.
Маршал Бассомпьер спрашивал у одного капитана, сколько ему лет.
– Лет тридцать восемь или сорок восемь, что-нибудь в этом роде, – ответил капитан.
– Как, – воскликнул Бассомпьер, – может ли быть, чтобы вы не знали в точности, сколько вам лет?
– Господин маршал, – сказал капитан, – я считаю свои деньги, свое серебро, свои доходы, свои вещи, потому что могу их потерять или у меня могут их украсть, но кто может у меня похитить мои годы или куда могут они затеряться? Поэтому я и нахожу совершенно излишним их пересчитывать.
Какой-то старый офицер, которого уже собирались поместить в инвалидный дом, просил того же короля оставить его еще на действительной службе.
– Но вы очень стары, – отвечал Людовик.
– Ваше величество, – возразил офицер, – я только на три года старше вас и надеюсь послужить вашему величеству еще, по крайней мере, двадцать лет.
В прежние времена в Европе применялась казнь изображения, причем вместо самого преступника вешали или сжигали его портрет или иное подобие. По этой части вышло забавное приключение с одним кутилой, жившим во времена Людовика XIV, маркизом Поменаром. Он обольстил какую-то девицу, и ее отец, человек богатый и влиятельный, с бешенством грозил ему, что если он не женится на обольщенной, то будет повешен.