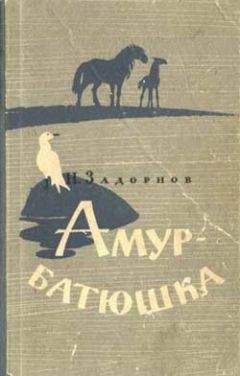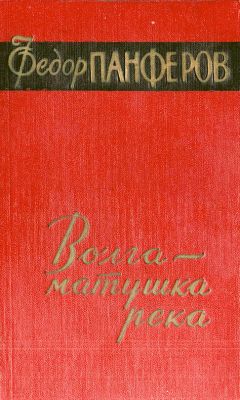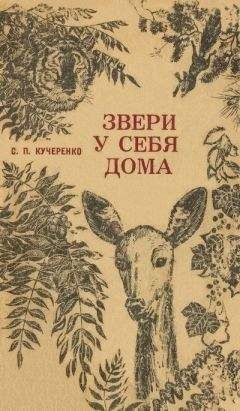А я думал: «У каждого рыбака свои понятия о счастье, но есть у всех них общее: стремление перехитрить рыбу и насладиться ее тугими живыми ударами по туго натянутой леске. Удочки ли, спиннинга или махалки…»
Живое серебро хрустальных омутов
Удивительно красивая и бойкая рыба, населяющая горные реки. Ужение хариуса на мушку или червя в высшей мере эмоционально. Осенью спускается до непромерзаемых плесов. Нерест — весною. Очень активен с мая по сентябрь. Размером невелик, зато необыкновенно вкусен.
В другой раз я с Федей Узой оказался в той высокогорной глухомани по Бикину, где истоки ключей и речек можно не увидеть, а услышать или почувствовать нутром: они глухо, иногда чуть слышно, лопочут и булькают где-то под россыпями камней и обомшелых глыб крутобоких распадков, окруженных криволесьем да коврами кедрового стланика.
Жарко шпарило солнце, красовались разноцветьем мхов и лишайников скалы, суетились и цвиркали сеноставки. Где-то недалеко рявкали медведи. А нас манили уходящие вниз, к далекому Бикину, могучие первозданные леса, так плотно укутавшие беспорядочно разбросанные сопки, что казались они фантастическими громадами зеленых валов оцепеневшего океана. И нас неодолимо туда тянуло еще потому, что изнывали мы жаждой.
Мы устало прыгали с камня на камень, да все вниз и вниз по распадку, потом пошли поперек нашей тропы «кресты» и «костры» из валежин, преодолевать которые стоило пота и загнанного дыхания. Вода из подземелья шумела уже звонче и радостнее, и, пожалуй, можно было до нее добраться, разобрав камни. Но Федя рассудил: «Еще чуток проломимся — и обопьемся». И мы стали ломиться дальше, потом вылезли к кромке загустевшего зеленобородого ельника, нащупали там зверовую тропу и облегченно, успокоенно зашагали вдоль распадка. А через четверть часа пили родниковую воду, как истомившиеся жаждой верблюды.
Потом, немного остыв в тени на плотных прохладных подушках мха, блаженно растянулись в холодной чистоте тонкой, но бодрой ледяной струи ключа, которая через десяток метров снова заныривала под камни.
Я склонен был тут же и отабориться, ибо солнце уже круто падало к сопкам, но Федя спросил: «Харьюзов хочешь? Через километр пойдут ямы, в них они теперь собрались, потому как ключ сильно обсох… Изголодались и ждут нас». Мы оделись, взвалили на плечи рюкзаки и по шли на штурм того километра.
…Первая яма оказалась небольшой: метров двадцать в длину, десять — в ширину и до полутора — в глубину.
С одного берега галечная коса, с другого — сухой крутой яр с еловым редколесьем и травяными полянами… Я уже готов был изречь: «Здесь наш причал… Сбрасываем рюкзаки!» — благо место для табора представлялось великолепным. Но Федя предостерег меня от крика, знаками приказал не шуметь… Потом поманил за собой пальцем… И мы уставились глазами в тихую, темную прозрачность омуточка.
Дно его было устлано крупной галькой и валунами с возвышавшимися над водой обомшелыми макушками. Лениво шевелились и бурые космы водорослей, блестела утопленная поллитровка, рыжели несколько проржавелых консервных банок, белел лосиный череп. «Какие тут хариусы?» — подумалось. А Федя, будто уловив мое разочарование, утер мне нос: «Штук двадцать… А то и тридцать… Все большие… Не пугай». Я же до рези в глазах просматривал каждый камень, каждый квадратный дециметр дна, но так ничего и не увидел. Только какая-то мелюзга суетилась стайками. Друг меня успокоил: «Когда кадана (хариус. — С. К.) стоит, очень трудно его заметить. Тут чутье нужно». У него-то чутье было…
Пока я расчищал место под палатку, Федя вырезал трехметровый хлыст, очистил его, привязал леску с крючком… Пока я собирал сушняк для костра, он разворотил огромный еловый пень, набрал целую горсть жирных белых короедов и с удочкой спустился с яра, исчезнув с моих глаз… Я еще развязывал и разворачивал палатку, как внизу заплескалась вода, а через минуту к моим ногам упал и бешено запрыгал хариус — родственник знаменитой форели. Я взял его в руки и тут же подумал: высокую красоту описать невозможно — ее надо видеть. Об этом хариусе можно было сказать: «Его тело — что мастерски отлитый из благородного металла клинок. Он украшен чудным громадным опахалом спинного плавника, прозрачно отливающего едва ли не всеми цветами радуги и сполохами северного сияния. А были еще оранжевые парные плавники, серовато-фиолетовые — непарные и широколопастный хвост».
Стоило попытать выразить эту красоту и иным манером: «Он туго затянут в роскошное серебро мундира, подкрашенного лилово-серой-зеленоватой акварелью на спине, до ослепительного блеска начищенного с груди и живота, с наведенными темно-радужными полосками по светло-голубым и матовым бокам старинного серебра. И еще тот мундир украшен мелкими темными пятнами на боках и спине, медно-красным сиянием над брюшными плавниками и оранжевыми „медалями“ — под грудными… А по спине развевается роскошный шлейф со стройными рядами фиолетовых глазчатых пятен и малиновой каймой удивительной чистоты…» Но все эти слова не передавали настоящей красоты только что выуженного хариуса.
Пока я тихо размышлял над красотою жар-рыбы, рыбы-цветка — этой королевы холодно-хрустальных омутов, — она затихала и успокаивалась. Все меньше билась и вздрагивала, и вот уже побежали по ее телу мелкие судороги… И уходило из этого чуда вместе с жизнью великолепие. Испарялись, таяли краски, терялись и блеск, и красота, сложился и подсох шлейф знаменитого спинного плавника… А через несколько минут мой первый хариус уснул, слинял, и о нем можно было сказать лишь то, что он серебрист и строен, в меру сжат с боков, с красивой глазастой небольшой головой, изящно заостряющейся непрозрачным зубастеньким ртом…
За те 3–4 минуты, пока я любовался первой Фединой рыбой, он подбросил их еще три. Все такие же ослепительно резвые и красивые. И одноразмерные: чуть больше фута в длину и фунта весом.
Раньше мне частенько приходилось видеть хариусов — в тазах или на сковородках, — но те были гораздо мельче, рядовые: по 20–25 сантиметров было в них при 100–150 граммах. А эти — Федины! — оказывались молодцами!
Это позже я узнал, что в некоторых реках обширной хариусовой страны, распростершейся по Евразии от Англии и Франции до северо-запада Тихого океана, водятся и полуметровые, даже 60-сантиметровые весом под три кило, что камчатский рекордсмен потянул на три девятьсот, а чемпион абсолютный — мировой — значится в 4675 граммов. Надо полагать, что был он «ростом» как минимум 80 сантиметров — с хорошую кету, с увесистого толстолоба, с доброго верхогляда…
…Я бросил свои таборные дела и сбежал с берега. Федя, разоблачившись до трусов, тихо брел, отмахиваясь от комаров и мошкары, по урезу воды, забрасывая крючок и очерчивая поплавком по едва заметному течению охватистое полукружье радиусом в 5–6 метров. Он не блистал классическим мастерством ужения хариуса нахлыстом, вподкидку или впроводку. Леска была из не очень тонкой жилки немного длиннее удилища. Поплавок — бутылочная пробка, грузильце — дробинка, крючок, по моему определению, карасиного размера. Короед проплывал невысоко над дном, умело направленный рыбаком. Подсекал рыбу Федя без зевков, дергал не сильно, а зацепившейся не давал баловаться и выбрасывал на берег без промедлений и церемоний.
В тот вечер я получил первый урок ловли великолепной рыбы горных рек, преподанный мне столь просто и понятно, что помнится он и по сей день.
Из омуточка мы выдернули тогда полтора десятка хариусов, и все они были одинаково крупные. И нет в этом удивительного: чтобы в такую даль забраться по весне, надо было одолеть множество перекатов и порогов, побороть стремнины и водопады. Самым крепким это под силу. А ключ обмелел — и все они тут… Изголодались, а потому и набросились на короедов… Даже ленки сюда не поднялись. Выше «харьюза» одни только гольяны как-то умудряются пробираться…
Уже под звездным небом мы хлебали чудную юшку и наслаждались сочной и нежной харьюзятиной. А тем временем вокруг костра созревали золотистой корочкой шашлыки из хариуса, причем созревали столь аккуратно, что не обронилась с них ни единая капелька сока и ни единая жиринка. Что ни говори, чего ни коснись, — Федины руки оказывались золотыми.
За делами он просвещал меня: «Бывает, харьюз на всякую приманку ноль внимания, а то жадно бросается хоть на лоскуток тряпки. Потому-то его иной раз и заправский харьюзятник не подцепит, а то любой зеленый сопляк стоит на берегу или даже в воде и дергает одного за другим… И так бывает: цепляются — снимать успевай. Один сорвался — другой тут же цапает крючок. И тот, что сорвался, тоже жадничает. Прямо у твоих ног берет! А через час — глухота. Все берега исходишь, всякое испробуешь — пусто…»