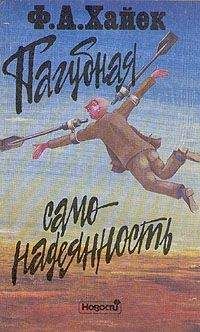Самое очевидное доказательство упадка культуры в XX веке получается при сравнении нынешних газет и журналов с теми, какие были около 1850 года. Уже в 1923 году Альберт Швейцер писал:
«Умственный уровень всего этого множества рассеянных, не способных к концентрации людей производит обратное действие на все органы, которые должны были бы служить образованию и тем самым культуре. Театр вытесняется развлекательными и зрелищными предприятиями, оригинальная книга теряется среди пустых. Газеты и журналы должны все больше считаться с необходимостью доводить все до читателя в самой легкодоступной форме. Сравнение среднего уровня современной ежедневной печати с печатью, бывшей пятьдесят или шестьдесят лет назад, свидетельствует о том, насколько ей пришлось измениться в этом направлении.
Проникнувшись поверхностным настроением, органы, долженствующие поддерживать уровень духовной жизни, производят обратное действие на общество, доведшее их до такого состояния, и навязывают ему безмыслие».
Со времени, когда были написаны эти слова, печать опустилась до полного маразма. Теперь нельзя уже говорить о том, что публика вынуждает журналистов опускаться до ее уровня; журналисты давно уже опустились до самого нетребовательного вкуса и понимания. Они знают, что «массовый» читатель не станет разбираться в длинных статьях, не способен проследить сколько-нибудь серьезное рассуждение и сердится, когда у него предполагаются какие-нибудь знания. Их задача – разрубить материал на короткие статейки с броскими заголовками, действовать на воображение сенсациями, дешевыми парадоксами и непристойностями. Многоцветная реклама, доставляющая этой печати основную часть дохода, направлена на предполагаемые жизненные цели читателя – спиртные напитки и секс. Это печать, рассчитанная на идиотов, и я думаю, что средний нынешний читатель не дошел все-таки до такого идиотизма. Здесь действует конкуренция глупых дельцов, раз навсегда усвоивших некоторый стандарт общепринятой пошлости и соревнующихся в рамках этой условности.
Я очень хорошо знал об упадке печати и все-таки несколько раз был поражен сравнением с прошлым. Во время революции 1848 года русский публицист и критик Анненков, находившийся тогда в Париже, составил обзор французских газет и журналов всех направлений и вкусов, с выписками из статей и пояснениями. Удивительна проявляющаяся в этой печати культурность пишущей публики – и предполагаемая культурность читающей. Очевидно, что это были люди, учившиеся в серьезных школах гуманитарным наукам, знавшие множество вещей из истории, литературы и даже философии и – что больше всего бросается в глаза – усердно учившие латынь. Конечно, авторы были очень разные и большей частью отнюдь не выдающиеся, но вся эта масса образованных людей, lettrés, была прямо пропитана латинскими цитатами, непременно украшавшими их рассуждения и рассчитанными, конечно, на читателя, не справлявшегося об их смысле в словаре Ларусса.
Самый популярный литературный критик того времени Сент-Бёв писал для высоко образованного читателя. Его экскурсы в историю французской литературы выходят далеко за пределы моего чтения и, как я уверен, бросили бы вызов эрудиции самых начитанных нынешних французов. Тонкость его наблюдений, вся ткань его сложного повествования адресованы человеку, знающему толк в книгах и умеющему оценить умный разговор о них. Одним из почитателей Сент-Бёва был молодой человек, впоследствии писавший под псевдонимом Анатоль Франс. И эти люди вовсе не были антиквары и библиофилы; я запомнил смолоду фразу из «Аббата Куаньяра»: «Кто рассуждает, никогда не взлетит» [14].
Другими сильными переживаниями были для меня эссе Маколея, опубликованные главным образом в журнале Edinburgh Review[15]. Читая с увлечением эти длинные, глубокие статьи, я не сразу осознал, что это была журнальная литература того времени, что джентльмены, выписывавшие этот журнал, не нуждались в переводе цитат на разных языках и в комментариях об упоминаемых авторах. Образованность читателя подразумевалась. Подразумевался также широкий круг интересов: история, философия, современная политика занимали читателя так же, как все разнообразие европейских литератур. Все это вспомнилось мне, когда один знакомый американец в разговоре со мной принялся высмеивать викторианскую эпоху, приписывая ей узость взглядов, классовую ограниченность и ущербную мораль. Конечно, этот человек не знал, о чем говорит, повторяя вычитанные где-то фразы. Нетрудно указать, в чем мы превосходим викторианского джентльмена; но весьма поучительно подумать, в чем он превосходил нас. Было бы интересно знать, какой человек впервые высадился на Луне. Перед нами поразительный триумф «равенства»: через некоторое время будут возить на Луну туристов, как теперь возят в Антарктиду.
Я не сравниваю здесь русскую печать прошлого века с нынешней: результаты такого сравнения были бы слишком очевидны, но их можно было бы объяснить особенным историческим несчастьем, постигшим Россию – трагически не удавшейся революцией и ее последствиями. Поэтому я взял здесь примеры, касающиеся Западной Европы, где процессы упадка происходили без такого рода катаклизмов.
По-видимому, есть некоторые общие закономерности распада цивилизаций. В конечной их стадии увядание литературы, искусства и убожество политической жизни сопровождаются расцветом точных наук и в особенности техники. Так было в александрийский период и в конце Возрождения. К концу нашего века точные и естественные науки все еще преуспевают, хотя главным образом в смысле количественного приращения знаний; а техника сможет использовать оставленный наукой «задел» в течение столетий, если только не погубит человечество какой-нибудь новой игрушкой. Посмотрим теперь, что произошло в нашем столетии с духовной культурой.
До середины прошлого века предполагалось, что общественным мнением и самосознанием отдельного человека руководит философия. Мышление философов воздействовало на образованную часть общества, на университетскую среду и учащуюся молодежь, а затем, в виде «популярной философии» [Выражение Швейцера.] или идеологии, передавалось широкой публике. Швейцер начинает свои лекции с тезиса о «вине философии» перед современным человечеством, и вина эта состоит в том, что ее больше нет. Центральной, важнейшей областью философии всегда была «онтология» – учение о смысле человеческой жизни, о назначении человека в мире и о целях его личного и общественного поведения. Я не пытаюсь здесь дать более точное определение, а ограничиваюсь лишь тем, чтó Швейцер (не использующий термина «онтология») называет «элементарной философией». Очевидный факт состоит в том, что такая философия почти исчезла. С середины прошлого века были предприняты лишь три серьезных попытки ее возродить. Две из них (Ницше и Экзюпери) пытались побудить человечество прервать его «прогрессивное» развитие и вернуться к некоторой фазе предыдущего развития: у Ницше этим «идеализированным прошлым» была фантастически искаженная им эпоха Возрождения, у Экзюпери – феодальное средневековье. Единственным автором, видевшим подлинные причины происшедшего в нашем веке разрушения культуры и искавшим пути ее восстановления, был Альберт Швейцер, к философии которого мы еще вернемся. Что касается подавляющего большинства профессиональных философов нашего века, то их интересы ушли далеко от «философии человека». Самые способные из них, такие, как Рассел, Поппер, Рейхенбах, посвятили себя теории познания, анализируя познавательную способность человека в применении к природе и в особенности важнейшие физические достижения их времени – теорию относительности и квантовую механику. Другие принялись изучать «историю философии» и вряд ли особенно преуспели в этом, за неимением руководящих общих идей. В общем, в философии человека XX век почти ничего не дал; отсюда понятно общее недоверие и даже презрение к философии, заметное не только в широкой публике, но особенно в среде ученых.
Отсутствие общих идей проявилось во всех гуманитарных науках: достаточно посмотреть, что произошло с историей. В нашем веке не было больше серьезных попыток исторического синтеза; вообще, всякая обобщающая, рефлективная деятельность рассматривалась как старомодное, произвольное философствование, и ценились только конкретные исследования фактов прошлого. Примечательно, что материальные факты при этом решительно предпочитались человеческим фактам. Единственное серьезное продвижение в нашем знании о человеке – возникший в самом начале века психоанализ – не вызвал глубокого пересмотра действовавших в истории человеческих мотивов. Крупнейшие достижения историографии относились к материальной культуре; именно этим занимались крупнейшие историки нашего века, такие, как Ростовцев или Бродель.