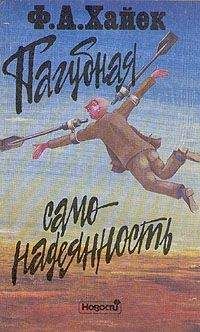Швейцер был безусловно прав, поставив этику в центре своих размышлений о культуре. Но вряд ли сам термин «этика» содействовал популярности его философии: это ученое и не очень эмоциональное слово. Чтобы увлечь людей, нужны другие слова; но в наше время их не слышно.
Итак, дихотомическое мышление первобытной культуры резко противопоставляет «добро» и «зло», как это и нужно для воспитания первобытного человека. Пожалуй, больше подчеркивается «зло»; то, что запрещено делать, превращается в священные табу. И затем уже «добро» определяется через «зло»: добродетельный человек – это прежде всего тот, кто не нарушает племенных табу. Впрочем, наличие «внешнего врага» очень скоро развивает представление об активном добре – таковым становится прежде всего воинская доблесть. Недаром знаменитое слово bonus первоначально означало «сильный, боеспособный», а потом уже восприняло смысл справедливости и доброты; сюда же относится и русское прилагательное «добрый», которое в выражении «добрый мóлодец» вначале означало вовсе не отзывчивость и сострадательность, а силу мышц и ловкость движений. Из всей культурной традиции упорнее всего сохраняется ее этическая система. Неудивительно, что резкая дихотомия добра и зла пережила первобытную стадию культуры и ослабевает лишь тогда, когда сама культура клонится к упадку – как это происходит в наши дни. Доводя до крайности представления о добре и зле, культура их персонифицирует, связывая эти виды поведения с влиянием сверхъестественных существ, добрых и злых. Добрые боги ведут – с переменным успехом – войны со злыми богами, и эта «космическая» трагедия используется для того, чтобы «оправдать» наши, земные трагедии. На очень ранней стадии общества добро – это несомненно воинская доблесть, а зло (если не считать нарушений табу) – недостаток воинской доблести или неумение побеждать.
Лучшее изображение такой «воинствующей» этики – германская мифология, где высшим благом считается возможность всегда воевать и одерживать победы. Но у гомеровских греков уже нет Валгаллы. Илиада – это история бесконечной резни; доблести должным образом прославляются, как это и нужно было слушателям поэта, но сам он уже тяготится бессмысленным поклонением войне. В символическом поединке Диомед вонзает копье в божественное брюхо Арея. Поэт не может нарушить традицию: Ахиллес должен убить Гектора; но сам Гомер не одобряет безумства Ахиллеса, опьяненного войной ради войны. Все его симпатии на стороне Гектора, разумного защитника Трои и воина не по своей воле. Гомер уже пресыщен Валгаллой. Его влекут дальние странствования, тайны природы и мечты о лучшей жизни. И он приводит Одиссея в страну блаженных феакийцев – первую из Утопий.
Рождение Утопий означает, что у людей созревает представление об Абсолютном Добре, и замечательно, как по закону контраста это высшее Добро противопоставлено низшему: военной славе. Одиссея противостоит Илиаде как новая глава истории. Феакийцы, любимцы Посейдона, не имеют нужды воевать и не готовятся к войне. Они знают лишь мирные состязания, музыку и танцы. Корабли их не боятся бурь и сами находят свой путь. Но боги не хотят, чтобы другие смертные отыскали путь к ним, потому что мир должен остаться во власти зла. И Одиссею не дано блаженство: он должен вернуться к резне. Повседневная жизнь, со всем ее добром и злом, противостоит здесь Абсолютному Добру, но здесь еще нет Абсолютного Зла. Его изобрели христиане, понявшие, как построить полную дихотомию человека[22]; но об этом потом.
Здесь важно понять, что потребность безгранично обобщать свои мысли и чувства – которую мы назвали глобализацией – заключена в самой природе человека. Это попросту означает, что человек не может жить иначе. Недаром человек перенес это свое неотъемлемое свойство – как и другие свои свойства – на придуманного им Бога, назвав его Бесконечным Существом. Бесконечное Существо – это и есть Человек. Он не может остановиться в своем влечении к совершенству, в своем этическом максимализме. И вообще, человек по своей природе – максималист. Иначе как бы он стал человеком – подумайте, сколько трудностей ему пришлось для этого преодолеть. Между тем, наши родичи гориллы мирно живут в горных лесах Конго, не зная врагов, питаясь зеленью и плодами. Они живут в Утопии, достигнув Абсолютного Добра, и жили бы там вечно, если бы не человек. Несомненно, в человеке работает открытая программа прогресса, побуждающая его не останавливаться ни на чем – не довольствоваться никакой утопией. Лесные плоды ему недостаточно сладки, он непременно выдумает сахар. Смысл этой программы можно понять. Если наряду с генетической наследственностью человек выработал культурную наследственность, то медленная, зависящая от случайностей среды генетическая эволюция должна была дополняться культурной, происходящей очень быстро. Но смысл всякой эволюции – совершенствование вида, позволяющее ему выжить, и точно таким же был вначале смысл культурной эволюции. Если предположить, что теперь существованию нашего вида уже ничто не угрожает (дальше мы рассмотрим это предположение!), то инстинктивно обусловленное стремление к культурному прогрессу продолжает действовать: эволюция не берет назад своих даров. Конечно, то, что обусловлено генетически, не содержится в виде какого-то «гена прогресса» в нашей ДНК: достаточно было запрограммировать непреодолимое влечение к «лучшим условиям среды», не довольствующееся никакой данной средой, а потому (при должном развитии мозга) всегда стремящееся создать лучшую среду. Допустим, без доказательства, но очень правдоподобно, что это стремление могло возникнуть как раз из соединения совершенно аномального стремления к лучшим условиям среды с развитым мозгом, способным представить себе изменение самой среды. Тогда прогресс представляется и в самом деле частью биологической природы человека: это его «космическая жадность». А если какая-нибудь культура лишается этой «жадности к жизни», довольствуясь тем, чтó у нее уже есть, это свидетельствует о ее коренном пороке и предвещает ее неизбежный упадок: фрустрируется одна из главных человеческих программ, которая долго не действует, а поскольку все программы связаны между собой, то угнетается и всякая активность. Более того, приводятся в действие разрушительные программы, поскольку активность ищет себе компенсирующие пути. Суждена ли такая же судьба всей человеческой культуре – культуре в первом смысле слова – я не знаю, но уверен, что фрустрация «прогрессивного» инстинкта погубила бы наш вид. К этой теме я еще вернусь дальше, при обсуждении «конфуцианской культуры».
***
Поразительно, что древние греки не додумались до идеи прогресса. В области человеческих отношений и государственного устройства греческие мыслители рассмотрели чуть ли не все возможности, испробованные в дальнейшей истории; но в отношении будущего греки всегда были пессимисты. Идея вечного повторения, высказанная многими и уже на склоне греческой цивилизации повторенная Полибием, может здесь кое-что объяснить. У египтян и китайцев не было такой идеи, так как их политический опыт ограничивался одной неизменной системой. У греков же было, по их классификации, пять политических систем: монархия, аристократия, демократия, олигархия и тирания, все время и в разных местах сменявших друг друга. Естественно, они повторялись, потому что никаких других способов управления, кажется, придумать нельзя. Развитие могло бы происходить в рамках каждой из них, или некоторых из них; но греки не придумали механизмов, обеспечивающих достаточную устойчивость – может быть, потому, что у них была «непосредственная» государственность, где все знали друг друга, и казалось не очень нужным формально закрепить законы. К несчастью для себя, греки недостаточно ценили законность[23]. А поскольку пять систем калейдоскопически сменяли друг друга, то ни одна из них не успевала развиться. С другой стороны, греческая религия легко взяла верх над попытками натурфилософов произвести человека от низших существ; как и везде, в Греции человек претендовал на благородное происхождение – от богов и героев. Но в других древних культурах считалось, что боги установили на свете устойчивый порядок и следят за его сохранением. Греческие боги были беззаботны и предоставили миру вырождаться: отсюда теория регресса. Сначала был золотой век, а затем дела шли все хуже и хуже. Я не пытаюсь объяснить здесь, почему греческая мысль навсегда осталась пессимистичной; но, может быть, именно смена и повторение одних и тех же режимов в целом ряде мелких государств, без малейшей новой идеи в течение столетий, и породила такой теоретический пессимизм. Так или иначе, греки помещали свои Утопии в прошлом. И когда Платон пытался сконструировать свое идеальное государство, он списывал его конституцию со спартанской неписаной, но вообразил вдобавок правителями философов вроде самого себя. Если цель состояла в том, чтобы ничего не менять и этим приостановить дальнейший распад, то нужны были вовсе не мыслящие правители. Философы в роли цензоров и полицейских – это нелепость. Но ретроградная утопия Платона во многом напоминает ретроградную утопию нашего века – фашизм. Это была, однако, утопия для аристократов, ничего не говорившая чувству и воображению униженных и бедных. А поскольку первоначальная христианская церковь опиралась именно на эти слои населения, ей нужен был другой идеал Абсолютного Добра. Идеал этот пришел с Востока, потому что у греков было удивительно бедное эсхатологическое воображение: у них не было сколько-нибудь развитого представления о загробной жизни. Его не было также у евреев, но оно было очень важно в религии египтян и сирийцев; оттуда и пришли к христианам ад и рай. Рай стал для них Абсолютным Добром и, таким образом, Утопия стала посмертной, какой она была и у многих восточных народов. Для нас более интересна земная утопия христиан – Тысячелетнее царство, созданное, по-видимому, народным творчеством и воплотившее мечты простого человека о «хорошей жизни на земле». Мы еще займемся этим замечательным изобретением, поскольку оно и есть подлинный корень социализма. Теперь важно отметить, что здесь произошло удивительное перемещение мифа о Золотом веке: из баснословного прошлого он вдруг переехал в столь же фантастическое будущее. Земной рай переместился во времени, и перед человечеством возникла достижимая цель: вспомним, что первые христиане каждый день ждали второго пришествия и надеялись сразу же попасть в царство праведных. Но здесь не было еще идеи прогресса, потому что царство это не зависело от человеческих усилий, а только от воли божьей. Очень важно, что Тысячелетнее царство обещано было не мертвым, а живым.