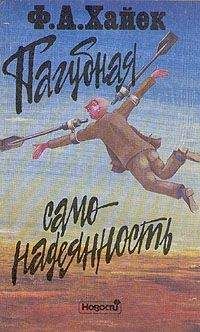«Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души; и экономическое поведение – всего лишь одна из сторон поведения человека, над которой, как и над другими ее сторонами, стоят связывающие ее моральные правила».
Затем Тони описывает, как в средние века смотрели на экономическую деятельность:
«Материальные блага необходимы; они имеют служебное значение, поскольку без них люди не могут существовать и помогать друг другу. <…> Но экономические мотивы подозрительны. Люди боятся их, поскольку они вызывают жадность, но они не настолько дурны, чтобы не вызывать одобрения.<…> В средневековой теории не было места для экономической деятельности, не связанной с моральной целью; если бы кто-нибудь предложил средневековому мыслителю основать науку об обществе на допущении, что стремление к экономической выгоде есть постоянная, измеримая сила, принимаемая, подобно другим силам природы, в качестве неизбежного и самоочевидного исходного факта, то подобная точка зрения показалась бы ему столь же неразумной и безнравственной, как социальная философия, основанная на неограниченном действии таких человеческих свойств, как драчливость и половой инстинкт. <…> Святой Антоний говорит, что богатство существует для человека, а не человек для богатства. <…> Поэтому на каждом шагу мы встречаем пределы, ограничения, предостережения, не позволяющие экономическим интересам вмешиваться в серьезные дела. <…> Человеку дозволено стремиться к такому благосостоянию, какое необходимо для жизни в его общественном положении. Стремиться к большему – это не предприимчивость, а жадность; жадность же – это смертный грех. Торговля законна: различные произведения разных стран свидетельствуют о том, что она была предусмотрена Провидением. Но это опасное занятие. Человек должен быть уверен, что делает это для общего блага, и что получаемая им прибыль – не более, чем плата за его труд. Частная собственность – необходимое учреждение, в этом падшем мире; люди больше работают и меньше ссорятся, если блага находятся в частном владении, чем если они принадлежат им совместно. Но это можно терпеть лишь как уступку человеческой слабости, но не приветствовать как нечто желательное само по себе. Идеал же, если только природа человека может до него возвыситься – это коммунизм. “Communis enim, – писал Грациан в своем «декрете», – usus omnium quae sunt in hoc mundo, omnibus hominibus esse debuit” [«Ибо все в этом мире, общее для пользования всех, предназначено для всех людей» (лат.) Грациан – юрист XII века; «Декретом» называется его сочинение по каноническому праву.] . И в самом деле, владеть имуществом было по меньшей мере хлопотно. Оно должно было быть приобретено законным путем. Оно должно было иметь как можно больше владельцев. Оно должно было доставлять помощь бедным. Оно должно было, по возможности, быть в общем пользовании. Его собственники должны были быть готовы разделить его с нуждающимися, даже если те не находятся в бедственном состоянии». К этому Фромм добавляет:
«Хотя здесь выражаются лишь нормы, не дающие точной картины экономической жизни, они в некоторой степени передают подлинный дух средневекового общества».
В средневековой Европе почти не было рыночного хозяйства. За редкими исключениями, хозяйство было замкнутым: нужные Экономические интересы подчинены подлинному делу жизни, каковым является спасение души продукты и изделия производились в пределах одного имения или одного города и там же потреблялись. Ремесленники были объединены в цехи, имевшие исключительное право заниматься в данной местности некоторым видом труда. Цех устанавливал «справедливые» цены на изделия, обязывал своих членов сообщать, где и почем они покупают сырье, контролировал качество продукции, регулировал взаимные отношения и претензии. Надзор за всем производством осуществляла королевская власть, часто вводившая предельные цены. Крестьяне вели натуральное хозяйство, отбывали барщину или платили сеньору оброк; они почти не участвовали в денежном обращении. При этих условиях не было подвижности населения, и города не имели такого значения, как в древности и, тем более, теперь; Париж и Лондон насчитывали в Средние века 20–30 тысяч жителей. В Европе было очень мало грамотных людей, и почти все они принадлежали к духовенству. Быть грамотным означало знать латынь. Но древних авторов читали лишь отдельные монахи, если читали вообще, и такое занятие считалось неправоверным. Это были поистине «темные века». Все, что рассказывают о «цветущей средневековой культуре», относится уже к исходу средневековья, к XIII–XV столетиям; а идеализация средних веков, даже в их позднем развитии, выражает лишь отчаяние нынешних мудрецов. Достаточно сказать, что к началу эпохи Возрождения ememперестали переписывать древние рукописи, а уцелевшие не умели хранить.
Любители средних веков – а это прежде всего враги демократии – особенно восхваляют бывший в то время «общественный мир». И в самом деле, до позднего средневековья все классы населения оставались в относительном равновесии, не нарушая в целом установившийся порядок. По принятой в то время теории, этот порядок должен был держаться до Страшного Суда. Духовным главой христианского мира считался папа римский, а светским – германский император, заимствовавший свой авторитет от императоров Рима. Общество было строго иерархическим: каждый человек должен был повиноваться своему сеньору. Сословное деление было столь жестким, что человек не мыслил себя вне своего общественного положения: каждый чувствовал себя столь же естественно крестьянином, ремесленником или дворянином, как если бы это были отдельные виды животных. Это был общественный порядок, где положение и обязанности каждого были не просто освящены религией и законом, но стали частью его психического склада. Историк Буркхардт полагал, что в средние века люди утратили свою индивидуальность, то есть не умели отделить себя от своей сословной среды, не ощущали себя чем-то отдельным от своей деревни, своего цеха или своего феодального ранга. Это мнение, может быть, преувеличено, но в нем есть немалая доля истины. По сравнению с античным миром это был глубокий регресс: мир как будто вернулся к сакральному порядку племенной жизни, где статус определял психику человека. Вернулся, но не совсем и не навсегда.
Ясно, что в этом статическом общеlt;…стве с наследственным складом личности мог быть длительный классовый мир. Все проявления социального недовольства принимали религиозную форму: в средние века античный «социализм» продолжается «ересями». Как нетрудно понять, общим мотивом всех этих еретиков – катаров, багаудов, анабаптистов и бесчисленных других – было осуждение неправедного мира и стремление вернуться к чистому первоначальному христианству. К концу средневековья крестьянские восстания говорят уже новым языком: они ставят под сомнение конкретный феодальный порядок. Английские крестьяне, восставшие под руководством Уота Тайлера, спрашивали: «Когда Адам пахал, а Ева пряла – кто был тогда дворянином?», а во время французской Жакерии крестьяне прямо настаивали на своем человеческом достоинстве. Они пели:
«Мы такие же люди, как они (дворяне),
У нас такое же большое сердце,
И мы так же можем страдать».
Мечты их возвращались в мифическое прошлое, когда предки их жили счастливо, «прежде чем пришли дворяне со своим королем Франком».
6. Общее представление о «капитализме» и «социализме»
Уже в древности мы обнаруживаем зачатки того, что теперь называют «капитализмом» и «социализмом». На этом этапе нашего исследования, до систематического рассмотрения явлений XIX века, породивших эти понятия, было бы преждевременно их определять, но уже сейчас можно связать с ними некоторые общеизвестные представления.
Под «капитализмом» обычно понимают общественный строй, основанный на рыночном хозяйстве, с приспособленной к этому хозяйству формой государственной организации, – то, что профессор Хайек называет «расширенным порядком». Такой строй давно уже существует в некоторых странах, а в наше время господствует на большей части земли. Напротив, «социализм», как общественный строй, еще никогда и нигде не существовал: это лишь «идеология» или «программа» некоторого будущего строя – возможного или нет. Понятие «социализм» связывается обычно с «социальной справедливостью», то есть с таким устройством жизни, при котором люди не делились бы на «бедных» и «богатых» или, ко крайней мере, первые меньше зависели бы от вторых. В таком виде это лишь наивное описание «того, что должно быть» – описание цели.
Противники социализма, такие, как Хайек, предпочитают другое определение этого понятия, подставляя вместо цели средство, и притом негодное средство: государственный контроль над экономической жизнью, полностью игнорируя «социальную справедливость». Это доставляет им немалое преимущество в споре с защитниками социализма, поскольку системы с государственным контролем над экономикой действительно существовали в России и Китае и доказали свою неэффективность. Но строгое применение такого определения привело бы к очевидным нелепостям [Один советский математик, наивно приняв это определение на веру, обнаружил «социализм» у египетских фараонов и перуанских инков, управлявших хозяйством своих стран очень долго и, по-видимому, эффективно. Последнее обстоятельство противоречит намерениям более искушенных авторов, о которых я говорю.] , и его пришлось ограничить контекстом новейшей истории, введя тем самым, в неявном виде, ту же «социальную справедливость», которую хотели обойти. В самом деле, в XIX и XX веке государственное вмешательство в экономику впервые стало рассматриваться как средство решения «социального вопроса». Поучительный урок любителям «точных определений»! Попытки перенести такие определения из математических наук в общественные сразу же приводят к нелепостям: оказывается, что такое «определение» описывает вовсе не тот круг явлений, который первоначально имелся в виду. Тогда ограничивают применение «определения» хронологическими факторами, вводящими другие факторы, и умалчивают о таком ограничении. Я слишком высоко ценю интеллектуальные способности профессора Хайека, чтобы освободить его от обвинения в сознательной фальсификации понятий.