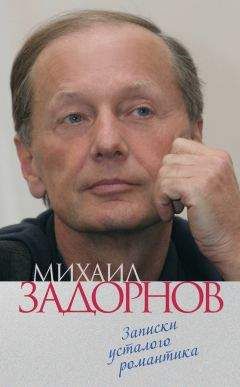Мы видим что-либо в мире не потому, что смотрим, а потому, что он показывает себя. Вот эта его раскрытость и составляет смысл обитаемости мира. То есть то, что отшельник (человек, выполнявший аскезу) видел красоту, свидетельствует о существовании структуры мира, конструирующей в нем видящий взгляд вне зависимости от степени его близости к мирским делам. Обитаемый мир обитаем и для выполняющих религиозную аскезу.
Этос бездомности определен необходимостью быть в необитаемом мире. Как создавался этот этос? В свое время М. Ве-бер выдвинул идею о рационализации жизни европейцев, начало которой положила Реформация, а продолжило Просвещение.
В каком-то смысле вся его работа «Протестантская этика» посвящена выявлению и описанию такой рационализации, как капитализм. Отделение дома от хозяйства лежит в основе рационализации с ее «дотоле неведомой пуританской традицией» (4, с. 47).
То есть «исправление» мира состояло в разрушении «старинного и заветного характера земледельческого народа». Этот характер хранили крестьяне, т. е. люди, которые, где бы они ни бегали, а «к осени домой гоношат» (8, с. 92). Но вот после рационализации они возвращаются домой, а дома нет. И тогда появляются люди – перекати-поле. 11.10. Срыв В каком-то смысле вся новоевропейская философия – это рационализация мироощущения «человека – перекати-поле», последний всплеск которой связан с экзистенциализмом. В русском языке есть слово, передающее точный смысл новой экзистенции: «сорвался». «Человек сорвался и его понесло». Бродячая Русь знала прошаков, «кубраков, лаборов, побирушек, погорельцев, колдунов, но не было среди них тех, к кому можно было бы отнести идеологию «сорвавшегося» человека. Это были странные люди, апостольским способом странствующие из края в край. Россия, наращивая свое тело, выделяла людей, заселявших огромные территории. Но идеология переселенца не приживалась. Сохранялось изначальное умонастроение крестьянина, душа которого, по словам Пришвина, «это детская душа». Хлеб и забава – вот все, что нужно крестьянину, «причем они все это, и хлеб, и забаву, сами производят» (9, с, 71). «Земля, – писал А. Афанасьев, – на которой селился род, которая возделывалась его руками и которая действительно была его кормилицей, становилась ему родной» (1, с. 149). «Земляк», «землячество» держали человека в напряжении естественной связи и благодаря этому «держанию» появлялось содержание крестьянской жизни, которое в России сохранялось еще в начале XX века.
Но ветром истории (первоначальным накоплением капитала) крестьянина вырвало из насиженной социальной ячейки и «для него родня, земля, народ, государство, в которых он до тех пор был заключен своим существом, перестали быть действительностью» (6, с. 245). Так было в Англии, так стало и в годы индустриализации России. А. Тойнби писал: «Человек, не знакомый с нашей историей.., Мог бы подумать, Что произошла какая-нибудь большая истребительная война или насильственная социальная революция, вызвавшая переход земельной собственности от одного класса к другому…» (12, с. 44). В конце XVII в. в Англии еще насчитывалось 180 тысяч мелких землевладельцев. В конце XVIII в. их уже не было. «На сцену появляется отдельная личность – фигура, неизвестная средневековому обществу, но представляющая столь яркую особенность современного мира» (12, с. 89-90). Присмотримся же, как говорил Г. Федотов, к этой личности, памятуя о том, что в полном мире христианства средних веков не было места для личности. Это уже новоевропейская «штучка». Ее самостояние и самостроительство осуществлялось в терминах, которые идеологами новой Европы были превращены в категории бытия. 11.11. Переселение М. Вебер различал, следуя Аристотелю, ведение хозяйства, рассчитанного на удовлетворение потребностей и хозяйство, ориентированное на рынок. Его, как впрочем и А. Чаянова, удивлял «традиционализм», т. е. стремление людей жить так, как они живут, а не иным образом. При этом способе мышления повышение расценок ведет не к росту, а к уменьшению производительности труда. Но вот «прежние патриархальные отношения между хозяевами и рабочими исчезли, и место живой человеческой связи заняла связь, исчерпывающаяся- «n-dvnrawiSiw ^^ш?:тм» /12. с. 83). Вернер Зомбарт, развивая эту тему, писал: «Насколько я себе представляю дело, заселение Северной Америки происходило в большинстве случаев следующим образом: группа здоровых мужчин и женщин – скажем, двадцать семейств – отправлялась в дикие, нетронутые места, чтобы начать здесь новую жизнь. Из этих двадцати семейств девятнадцать имели с собой плуг и серп, они шли с намерением распахать леса, выжечь степи и зарабатывать себе пропитание, возделывая собственными руками землю. Двадцатая же семья устраивала лавку и снабжала своих сотоварищей необходимыми предметами потребления, которых не производила земля.
Эта двадцатая семья начинала вскоре брать на себя задачу сбыта произведенных девятнадцатью другими семьями земледельческих продуктов. Она имела больше наличных денег, чем другие семьи, и поэтому могла, в случае нужды, быть полезной другим ссудами. Очень часто к «лавке», которую она держала открытой, примыкал своего рода земельный кредитный банк… Таким образом , благодаря деятельности этой двадцатой семьи североамериканский крестьянин уже заранее приходил в соприкосновение с денежным и кредитным хозяйством старого света. Все производственные отношения складывались наперед на современном основании. Дух города победоносно врывался сейчас же в отдаленные деревни» (7, с. 61-62). Двадцатая семья придала капиталистический характер «Новому Свету». То есть она рационализировала отношения так, что деньги получили статус самостоятельной ценности.
Вот этот образ переселения из Старого Света в Новый Свет составляет предельный замысел новоевропейского человека, его идеальный план. В данном случае не имеют никакого значения факт физического изменения и перемещения. Для того чтобы стать «переселенцем», нет нужды далеко уезжать. Для этого нужно «вывалиться» из системы фактически существующих связей и посмотреть на них как бы со стороны. По замечанию В. Зомбарта, уже «всякая торговля… это немного изменение или перемена отечества. Она воспитывает рациональность» (6, с. 269). 11.12. Свои и чужие Человек – перекати-поле не знает своих, он вне нации и земли. Для того чтобы быть, ему нужна недоделанная культура, неустановившийся процесс. Проблема отчуждения состоит в том, что повсюду встречаются только чужие, ибо «перекати-поле» вненационально. «Евреи и европейцы, протестанты и католики проявляют одинаковый дух, когда они являются «иноземцами» (6, с. 243). Они не ограничены никакими личными отношениями. Они подвешивают мир к крючку условности и реальность рассыпается у них на глазах, привычное становится не само собой разумеющимся.
Единственная самоочевидность – это бесстрастные глаза охотника за дословным бытием в пустыне чужих. Ведь «Никакой традиции! Никакого старого дела! Все должно вновь быть создано как бы из ничего» (6, с. 246). Нигилизм как возможность создания из ничего что-то превратился в принцип творчества новоевропейской личности, страдающей ностальгией по иному миру. «Никакой связи с местом: на чужбине всякое место одинаково безразлично, или раз выбранное, его легко меняют на другой» (6, с. 246).
Пришелец из идеального мира иного вполне реален, но, как пришельцу, ему нужно родиться второй раз. Только в этом рождении «иномирец» ни на кого не полагается.
Он себя строит сам и вокруг этого самостроительства «все пустеет,отмирает всякая жизнь, погибают всякие ценности… Родина становится… чужбиной.
Природа, искусство, литература, государство, друзья – все исчезает в загадочное ничто…» (6, с. 282). Его символ огонь, в пламени которого сгорает все живое.
Новоевропейская личность предприимчива. «Если движение и быстрая смена ощущений и мыслей составляют жизнь, то здесь, – по словам Шевалье, – живут стократно. Все – кругооборот, все – подвижность, вибрирующая живость. Попытка сменяет попытку, предприятия – предприятие» (6, с. 246). Все спекулируют и спекулируют на всем.
Воля к прогрессу, радость состояния «когда еще только», соединенная с этикой протестантизма, породили силу, разрушающую природу и человека. Эта сила – новоевропейская личность, вестминистерского или аугсбургского исповедания.
Гражданин мира, т. е. капитал, шагает по следам «Я мыслю» и «Не могу иначе». Вы надеетесь, что его скуют и вновь поставят на место. «Подобные попытки потерпят жалкий крах. Он, разорвавший железные цепи древнейших религий, без сомнения, не даст себя связать шелковыми нитями веймарско-кенигсбергского учения о мудрости…
Что будет тогда, когда капиталистический дух, в конце концов, лишится своей теперешней энергии… Быть может, великана тогда, когда он остынет, выдрессируют, чтобы тащить демократическую тачку. А может быть это и будут сумерки богов.