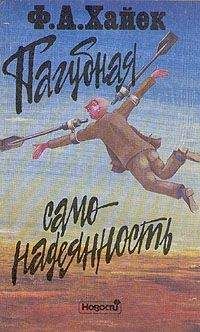Что заставляет людей соблюдать законы? Я не скрываю в моей книге, что законы – это не просто правила, оптимизирующие экономическую игру. Если бы это было так, то можно было бы надеяться раз навсегда установить такие правила и обеспечить стабильное общество, пока оно не надоест. Но увы, наши “моральные правила” – то есть законы, потому что при капитализме “мораль” формулируют юристы – несут в себе всю свою темную историю. Они связаны с “ценностями”, то есть с традиционным пониманием добра и зла, идущим от наших примитивных предков, с обычаями, сложившимися в первобытной орде. Да, я называю это гипотетическое сообщество ордой, а не племенем, как говорят другие. Я неважный антрополог, и дикари мне не внушают симпатии. Их “моральные правила” возникли в очень узком обществе, а теперь у нас совсем другой, “расширенный” порядок. Я подчеркиваю этим, что непосредственные отношения между людьми, какие были в первобытной орде, в современном обществе невозможны. “Правила” приходится соблюдать по отношению к незнакомым людям, не вызывающим у нас эмоций. Но в их основе остается некоторая ценностная подкладка, нечто архаическое и уже ненужное, что и заставляет прибавлять к существительному “правила” прилагательное “моральные”. Вы заметили, конечно, что это прилагательное – чужеродное выражение в моей системе.
Но ведь и мы сами – потомки дикарей. Люди никак не могут избавиться от морализирования, вместо того, чтобы просто соблюдать правила. Эти правила обеспечивают им приличное существование: материальное благополучие, какого не знали их предки, и свободу, которую впервые принес капитализм. Конечно, это общество несовершенно, даже очень несовершенно. Но после всех ужасов нацизма и коммунизма, которые я повидал на своем веку, каким благом кажется этот современный капитализм! Мы ведь все согласны с тем, что идеального общества не может быть, в этом мы все пессимисты. Надо довольствоваться неким приемлемым компромиссом и, слава Богу, история каким-то образом, после всех кризисов и революций, устроила этот компромисс. Люди настаивают на том, чтобы “мораль” принималась всерьез, и указывают на капиталистов, как на асоциальных паразитов. Конечно, те, кто заправляет предприятиями и банками, не руководствуются моралью, а преследуют собственные выгоды. Это можно прочесть и в моей книге: я признаю, что предприниматель должен быть корыстен и хитер, хотя и не подчеркиваю эти его свойства. Да, но ведь эти несимпатичные господа выполняют важную функцию в нашем обществе: если оно построено на конкуренции, то никак нельзя обойтись без хитрецов, обманывающих друг друга, да и публику вообще. Конкуренция – не моральное занятие. Хорошо, если они соблюдают законы, а если нет, то наличие законов удерживает их в каких-то рамках, не правда ли? Разве не всегда было так – в этом несовершенном мире? Система устроена таким образом, что хитрецы получают особое вознаграждение за качества, как раз не одобряемые традиционной моралью. Это и есть “социальная несправедливость”, с которой борются социалисты. Но эта система работает, а их система провалилась. Мы, экономисты, не можем как следует объяснить, почему она работает, но раз она держится на конкуренции, то приходится допустить и сопутствующий ей паразитизм. Чтобы не лить воду на мельницу социалистов, я не называю капиталистов паразитами. Они едва ли “работают” в обычном смысле, но выполняют функцию, неизбежную при таком устройстве общества, а другого эффективного устройства мы не знаем. Поэтому назовем их “организаторами производства”: они выполняют свою функцию, а если их устранить, то производство развалится. Вспомните, что получилось у большевиков! Опыт говорит, что опасно трогать собственников. Стоит только задеть их интересы, даже так мягко, как это сделали французские социалисты, – и начинается “бегство капитала”, падение курса на бирже. Если уж мы не понимаем как следует действие этой машины, научимся ее, по крайней мере, беречь. Вы находите, что за такую мудрость не стоит давать Нобелевские премии? Но ведь их дают консерваторы, и все дело в том, как лучше представить публике их консерватизм. Как видите, я немножко циник, как все пессимисты.
Давайте посмотрим на “моральные правила” следующим образом. Вся система права построена на полезных фикциях. Даже главная основа гражданского общества – равенство граждан перед законом – не что иное, как полезная фикция: люди очевидным образом не равны друг другу, и нельзя всерьез возлагать на них одинаковую ответственность за их поступки. Законы – это продукты эволюции, в начале которой были “моральные правила” первобытной орды. Теперь они превратились в полезные фикции, и ссылаться на их “моральное” содержание, по меньшей мере, наивно. Достаточно того, что они полезны: общество с такими законами – наилучшее, какое нам известно. Ведь и мы сами – потомки дикарей, как наши законы – потомки их первобытной морали. Нельзя же вечно возвращаться к этому прошлому!
Эволюция создала эту большую машину, составленную из людей, как гоббсов Левиафан. В первом издании его книги была картинка, изображающая гиганта, сложенного, как из кирпичиков, из человеческих тел. Что же, может быть, это и будет конечный итог истории? Люди будут жить в этой машине, как пчелы и муравьи, которые, по-видимому, счастливы, потому что им ничего не надо менять.
Но, кажется, мой крайний индивидуализм привел меня каким-то образом к коллективизму. Надо посоветоваться с философом. В конце концов, я ведь только экономист».
18. Главная ошибка Хайека
Книга профессора Хайека, которую я позволил себе резюмировать, была задумана как итог всей его жизни и работы; увы, автор подчинил ее требованиям того самого рыночного хозяйства, которое он восхваляет, пожертвовав «потребительской стоимостью» своего товара ради «меновой». Я попытался восстановить его подлинные мысли и, как мне кажется, сделал это добросовестно, не впадая в карикатуру. Только в самом конце я приписал Хайеку наблюдение, которое, может быть, никогда не приходило ему в голову; все остальное либо содержится в его книге, хотя бы в виде намеков, либо непосредственно вытекает из его установок.
Главная ошибка Хайека состоит в том, что он не принимает во внимание природу человека. Человек как живое существо наделен наследственными задатками. Генетическая наследственность человека – его система инстинктов – составляет ту неизменную основу, на которой должны строиться все теории его социального поведения, в том числе теории рыночной экономики. Я вовсе не хочу этим сказать, что человеческое общество можно объяснить из одних только биологических факторов; но игнорировать их нельзя. Точно так же нельзя игнорировать законы физики, пытаясь понять поведение животного; пользуясь выражением Лоренца, исследование на любом уровне интеграции не сводится к явлениям, принадлежащим низшим уровням, но должно принимать их в расчет. Социальные механизмы работают на более высоком, чем биологический, уровне интеграции, но не могут противоречить закономерностям биологии. Уровни интеграции и отношения между ними были описаны еще задолго до заключительной книги Лоренца берлинским философом Николаем Гартманом под именем «слоев реального бытия». Если биологические идеи были недоступны Хайеку, то с гносеологией Гартмана он мог познакомиться на языке немецкой классической философии, несомненно входившем в его культурную подготовку. Пренебрежение биологией человека можно объяснить общеизвестной историей философских взглядов, определявших общественное мышление Нового времени. Мышление это, не находя прочной опоры в естествознании, металось из одной крайности в другую.
19. Четыре периода развития общественного мышления Нового времени
В первом периоде, начиная со знаменитой лекции А. Тюрго (1750), мышление об обществе принимало за образец механику Ньютона, и может быть потому названо «механистическим». Социологи того времени не сомневались, что законы общественной жизни могут быть поняты в том же детерминистском духе, что будущее поведение человеческих коллективов можно будет предсказывать, как астрономы предсказывают движение светил; и эта вера наполняла умы этих людей безграничным оптимизмом, поскольку предсказуемым будущим надеялись управлять. Представителями этого «механистического» мышления были Сен-Симон и Конт. К нему следует отнести и Маркса, который в своих экономических и исторических исследованиях всегда пытался быть строгим детерминистом. Более поздние концепции социологии не оказали на него существенного влияния.
Во втором периоде, начиная с дарвинова «Происхождения видов» (1859), социологи руководствовались идеями эволюции и естественного отбора. Этот период можно назвать «биологическим», в довольно примитивном смысле этого слова, поскольку надеялись полностью объяснить общественную жизнь дарвиновой схемой «борьбы за существование». Отсюда произошел «социал-дарвинизм», первым представителем которого был г. Спенсер (пришедший к идее «борьбы за существование» (struggle for life) еще раньше Дарвина и придумавший это неудачное выражение, перенятое затем Дарвином). Достаточно банальная философия Спенсера оказала влияние на широкую публику; но особенно вредной была доктрина биолога Э. Геккеля, прямо перенесшего «борьбу за существование» в человеческую историю, где он усматривал борьбу «высших» и «низших» рас. Дарвин никогда не опускался до подобных гипотез и никак не участвовал в пропаганде «социал-дарвинистов»; но их брошюры усердно читал начинающий «социолог» А. Гитлер.