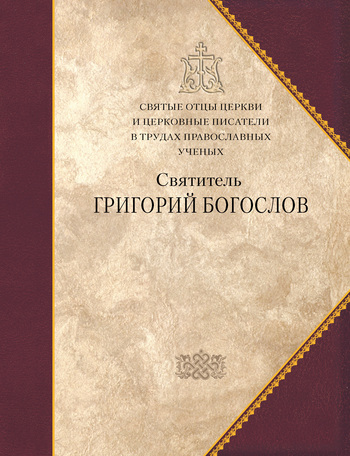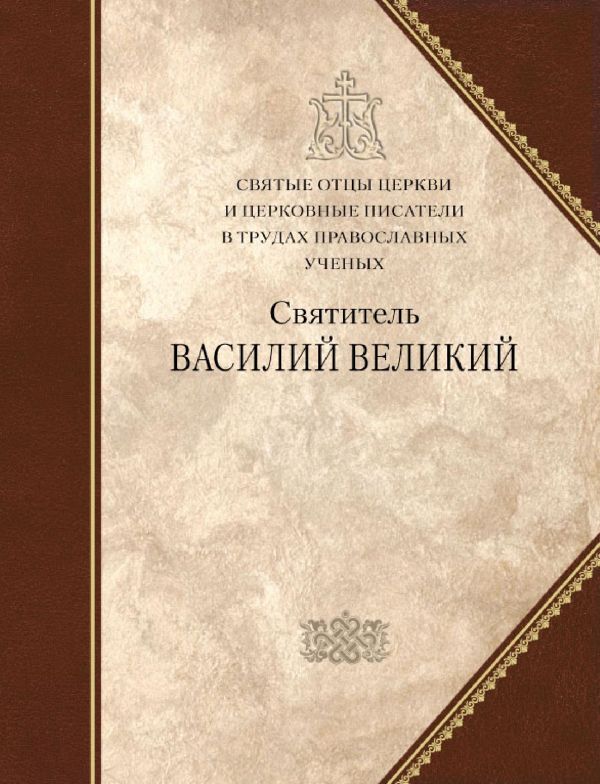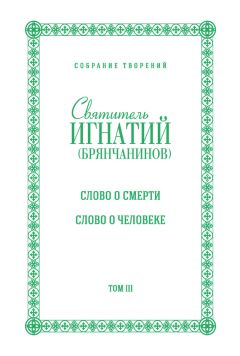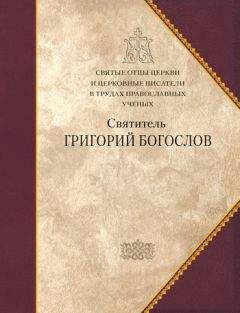прохладе, веющей с реки? Пусть другие удивляются множеству цветов и пению птиц – мне нет времени сим заниматься. Лучшим преимуществом моего убежища можно было бы почесть то, что оно, по своему выгодному положению, богато всякого рода плодами, но для меня всего приятнее в нем тишина и спокойствие, ибо оно не только удалено от городского шума, но и недоступно путешественнику; одни только охотники, преследуя зверя, иногда заходят к нам. Кстати, эта страна производит и зверей, только не медведей и волков, как у вас, а оленей, диких коз, зайцев и подобных животных. Итак, не думай, что я, как неразумный, иду навстречу опасности, меняя ваш Тиверин, пучину мира, на столь прекрасную страну, но одобри предпринятый мной путь. И Алкмеон положил свой страннический посох, когда нашел острова Эхинадские». [191]
По сему первому письму Григорий не пришел к Василию, но отвечал ему письмом в тоне почти отрицательном. [192] Когда же Василий во втором своем письме [193] изобразил ему внутреннее состояние пустынножительства как училища труда и добродетели, то Григорий, тронувшись таким изображением, наконец прибыл к отшельнику Ириса и нашел его среди многолюдного общества христиан. Это благочестивое общество возрастало со дня на день, принимая в свое недро людей, гонимых пороками и страстями язычников. Христианское любомудрие увлекало их в тишину пустыни надеждой безмятежного поклонения Господу. Там забывалась всякая собственность; пришельцы именовались братьями и подчинялись одному уставу, согласному с духом Нового Закона, по которому вся жизнь христианина должна быть служением Господу, упражнением благочестия и приготовлением к смерти. Трудолюбие служило им полезным развлечением после молитвословия, и смена телесных и духовных занятий делали приятнейшими те и другие. Вскоре гора была очищена от лишнего леса и сделана удобной для земледелия, овраги уровнены, и в местах, прежде непроходимых, явился сад, богатый плодами и необходимыми овощами. Григорий с радостью принял участие в пустынных занятиях и, одаренный воображением изобретательным, умел сообщать им вид изящный. Он и Василий сделали для себя особую усадьбу, дабы она была памятником их пустынного трудолюбия. В сие-то время Василий, пользуясь советами своего друга, написал аскетические правила, впоследствии принятые в монастырях Востока и Запада. Пробыв с Василием несколько месяцев, Григорий, отозванный своим отцом, оставил пустыню и потом свою любовь к пустынножительству и воспоминание о нем выразил в следующем письме к Василию.
«Кто возвратит мне те прошедшие месяцы, в которые разделял я тяжелые труды твои? Тогдашняя произвольная скорбь гораздо лучше настоящей невольной радости. Кто возвратит мне те псалмопения и бдения, те возношения сердца к Богу на крылах молитвы, ту жизнь, как бы бестелесную и бесплотную, то общество братий, проникнутых единодушием, как бы одуховленных и отторгнутых тобой от земли, те подвиги добродетели, побуждения к которой изложили мы в правилах и постановлениях, то упражнение в Священном Писании и свет, открываемый в нем под руководством Святого Духа? Но сойдем к низшим нашим занятиям. Кто возвратит мне ту смену ежедневных трудов: ношение дерев, сечение камней, насаждение и поливание растений? А наша золотая усадьба? Она драгоценнее Ксерксовой: под ее тенью сидит не этот славный царь, утомленный удовольствиями, а неизвестный отшельник, изнуренный трудами. Я насадил ее, Аполлос, то есть ты, напоил, а Бог возрастил как памятник нашего труженичества (ср. 1 Кор. 3:6). Но желать нам легко, а получать желаемое трудно. Помоги и содействуй мне, вдохни в меня твою добродетель и, если мы приобрели что-нибудь полезное, сохрани это твоими молитвами, чтобы наше полезное не исчезло, как тень на закате солнца. Я дышу тобой более, нежели воздухом, и жизнь свою услаждаю всегдашней о тебе мыслью». [194]
Но уединенная жизнь для сих двух высоких душ была только отдыхом и приготовлением к поприщу более обширному. Здесь они испытывали, упражняли и укрепляли свои силы, как предызбранные орудия Промысла, как будущие светильники Христовой Церкви. Вскоре, оставив пустыню, они должны были принять сан священства, а потом, когда один из них находился в Кесарии, а другой в Назианзе, народ единодушно призывал их на епископские престолы. Умилительно читать письма их, относящиеся к этому времени; в них дружба говорит языком утешения и поощрения. Вот письмо Григория к Василию.
«Мне понравилось начало твоего письма – и что твое не понравится мне? Ты был взят – и я также; оба мы принуждены были вступить на степень пресвитерства. Но к этому ль стремились наши души? Мы свидетели друг другу, свидетели достовернее всех других, что только уединенное и скромное любомудрие занимало наши мысли. Но не оставаться нам в сем состоянии, видно, было лучше; по крайней мере, я не знаю, что сказать об этом, пока не объяснится Домостроительство Святого Духа. Теперь, когда дело уже кончено, надобно, как думаю, покориться необходимости, а особенно в нынешнее время…» [195]
На престоле римских кесарей в это время восседал Юлиан!
Иеромонах Пантелеймон. Три Богослова: апостол Иоанн Богослов, святой Григорий Богослов и преподобный Симеон Новый Богослов [196]
Общие черты их учения вообще и богопознания в частности
Когда мы глядим на ясное звездное небо или входим в большой роскошный цветник, дивное зрелище тогда представляется нам. Какое здесь разнообразие и в то же время единство, какая разбросанность и в то же время гармония! Нечто подобное представляется и мыслителю, когда он пытается умственным взором окинуть мир святоотеческой письменности. Как трудно бывает зрителю, глядя на небо или находясь в цветнике, остановить свой взор на чем-либо одном! Но ему совершенно легко будет это сделать, когда он станет всматриваться в звезды какой-либо одной определенной величины и блеска или станет, например, выбирать цветы какого-либо одного названия. То же затруднение испытывает и всякий, кто пожелал бы остановиться вниманием в святоотеческой литературе на одном или нескольких отцах. Но это затруднение быстро исчезнет, когда мы обратимся, например, к отцам, получившим какое-либо общее и особенное наименование. В настоящем очерке мы и хотели бы остановить свое внимание на тех отцах, которые в исключительном смысле названы Богословами. Человеку мыслящему, и в особенности богослову, так естественно заинтересоваться именно этими отцами и спросить себя: по какой причине они так названы и существуют ли между ними какое-либо соотношение и связь? Такая любознательность ничуть не будет праздной. Напротив, от решения заданных вопросов богослов вправе ожидать для себя выяснения столь важной для него проблемы об истинном богословствовании и об истинном богослове. В лице тех отцов, которые по преимуществу наименованы Богословами, он и найдет идеал, а в самом