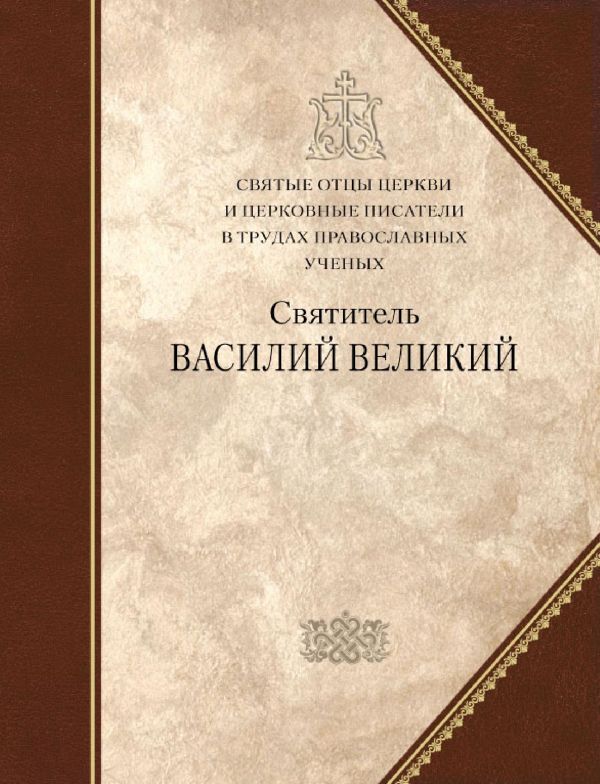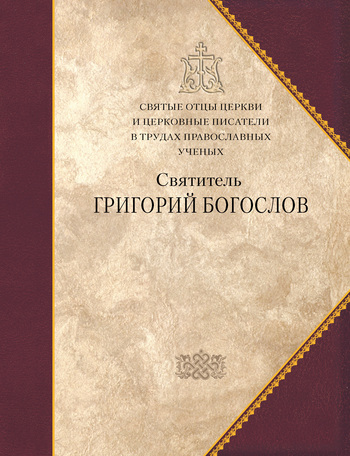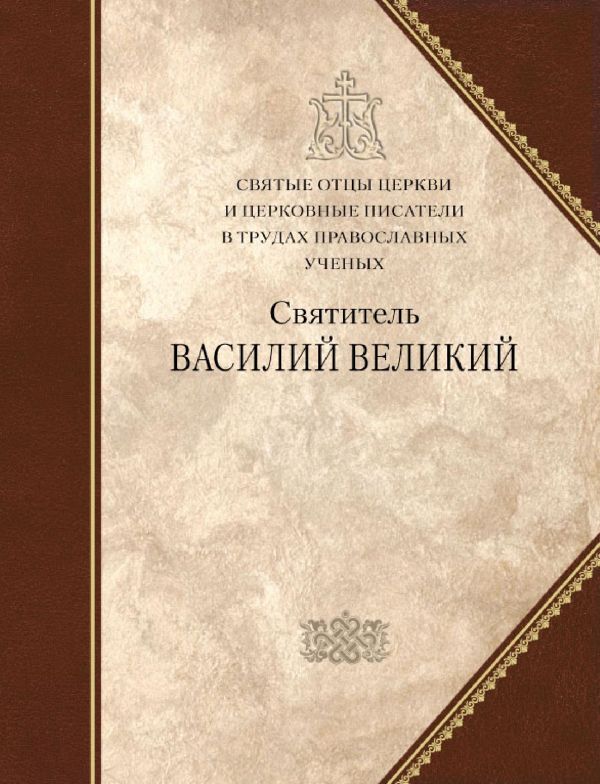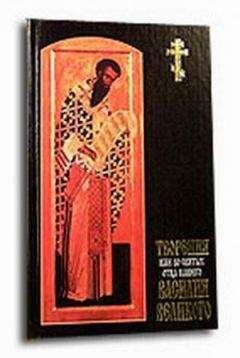было упражнение — добродетель и одно усилие — до отшествия отсюда, отрешаясь от здешнего, жить для будущих надежд. К сей цели мы направляли всю жизнь и деятельность и поощряли друг друга к добродетели… Мы вели дружбу и с товарищами, но не с наглыми, а с целомудренными, не с задорными, а с миролюбивыми, с которыми можно было не без пользы сойтись. Ибо мы знали, что легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье. Что касается до уроков, то мы любили не столько приятнейшие, сколько совершеннейшие. Нам известны были две дороги: одна — это первая и превосходнейшая — вела к нашим священным храмам, куда ходили по преимуществу слушать христианские наставления, другая вела к наставникам наук внешних. Другие же дороги — на праздники, в зрелища, в народные стечения на пиршества — предоставляли желающим. Ибо не почитали достойным внимания того, что не ведет к добродетели и не делает лучшим своего любителя. У других бывают иные прозвания, или отцовские или свои, по роду собственного звания и занятия; но у нас одно великое дело и имя — быть и именоваться христианами. Для других душепагубны Афины, потому что изобилуют худым богатством — идолами, которых там больше, нежели в целой Элладе, так что трудно не увлечься за другими, которые их защищают и хвалят; однако же не было от них никакого вреда для нас с Василием. Напротив того, живя в Афинах, мы утвердились в вере, потому что узнали обманчивость и лживость идолов, и научились презирать демонов там, где им удивляются; и ежели действительно есть или только в народном веровании существуют такая река, которая сладка, когда течет и чрез море, и такое животное, которое прыгает в огне всеистребляющем, то мы походили на это в кругу своих сверстников. Чрез сие самое приобрели мы не только известность у своих наставников и товарищей, но и в целой Элладе, особенно у знатнейших мужей Эллады. Слух о нас доходил и за пределы ее, как делалось это явно из рассказа о том многих. Ибо кто только знал Афины, тот слышал и говорил о наших наставниках, а кто знал наших наставников, тот слышал и говорил о нас». [13]
К концу пятилетнего пребывания в Афинах Василий достиг двадцатипятилетнего возраста. Надобно было возвращаться на родину. Настал день отъезда, и, как обыкновенно бывает при отъездах, начались, говорит Григорий Богослов, прощальные речи, проводы, упрашивания остаться, рыдания, объятия, слезы. Василия и Григория окружила толпа друзей и сверстников, между ними были некоторые и из учителей; те и другие уверяли, что ни под каким видом не отпустят их из Афин, и после просьб и убеждений прибегли даже и к мерам принудительным. Григорий не мог отказать таким живым и искренним выражениям душевной к нему приязни. Василий остался непреклонным, и удерживавшие против воли согласились на его отъезд. Он возвращался, по словам Григория Богослова, как корабль, столько нагруженный ученостью, сколько сие вместительно для человеческой природы. Но при всем этом он хотел еще ознакомиться с философией Евстафия, вероятно, ученика Ямвлихова, своего соотечественника; впрочем, не нашел его ни в Константинополе, ни в Кесарии и принужден был отказаться от своего желания. [14]
По возвращении в дом родительский Василию самому предстояло теперь звание учителя: и Кесария, и Неокесария убедительно просили Василия принять на себя образование юношества. Из Неокесарии явилось к ученику Ливания с этим предложением посольство из почетных граждан; все, толпою окружив его, употребляли всевозможные убеждения, высказывали многие и очень лестные обещания, но он не принял предложений. Отечественному же городу он не мог отказать в подобной просьбе; платя дань миру, дал несколько публичных чтений в кесарийской школе, и эти чтения сопровождались шумными рукоплесканиями. Но после этих опытов блистательного красноречия родная сестра Василия, строгая девственница и подвижница Макрина, стала думать, что афинская ученость породила в ее брате излишнее о себе мнение; в надежде смирить это самомнение она вместе с матерью поспешила оторвать брата от обольстительного, по ее мнению, поприща. Отец Василия скончался года за три до возвращения Василия из Афин; внушения любимой старшей сестры, подкрепляемые советом матери и именем почившего отца, должны были сильно подействовать на душу Василия, да и сам по себе он не имел расположения жить для зрелища или напоказ и не дорожил рукоплесканиями учеников и слушателей. Итак, вскоре отказался он от публичных чтений, а вскоре за сим поспешил очистить себя от всех грехов, приняв Святое Крещение, вероятно, от кесарийского архиепископа Диания.
Образ жизни и занятий после крещения предначертан был по взаимному совещанию с Григорием еще в Афинах. Именно еще здесь они изъявили решительное желание по возвращении из Афин посвятить себя монашеской жизни в какой-нибудь пустыне и никогда не разлучаться друг с другом. Теперь надлежало только позаботиться об исполнении обещания, высказанного другу. Но Григорий, сверх всякого ожидания, прислал письмо, в котором читались такие слова: «Признаюсь, изменил я обещанию жить и любомудрствовать вместе с тобою, как дал слово еще в Афинах во время тамошней дружбы и тамошнего слияния сердец… Но изменил не добровольно, а потому что закон, повелевающий прислуживать родителям, превозмог над законом товарищества и взаимной привычки. Впрочем, и в этом не изменю совершенно, если ты будешь согласен на то же самое. Иногда я буду у тебя, а иногда ты сам благоволишь навещать меня, чтобы все было у нас общее и права дружбы остались равночестными». [15] Тяжело было слышать о такой перемене мыслей, но нельзя было осуждать за нее, по уважению к долгу детей в отношении к родителям. Притом письменные сношения показали, что только на время отлагает Григорий исполнение своего обещания. Оставленный другом, Василий почел за нужное предварительно посетить палестинских и египетских пустынножителей для того, как сам говорит, чтобы научиться от них, как не заботиться о мирской жизни и не вдаваться душою ни в какое пристрастие. [16] Весь 357 год прошел в путешествиях уже не для научного образования, как прежде, но для изучения жизни подвижнической. Александрия, Фиваида, Килисирия, Месопотамия представили ему множество примеров изумительного самоотвержения, неутомимых молитв и подвигов любви. В его душе совершенно утвердилось желание подражать житию таких людей, каковы были сиявшие в то время в мире иноческом Пахомий, два Макария, Пафнутий и сонмы их сподвижников. К тому же он не терял еще надежды на то, что и Григория в непродолжительном времени привлечет на свою сторону. Но и