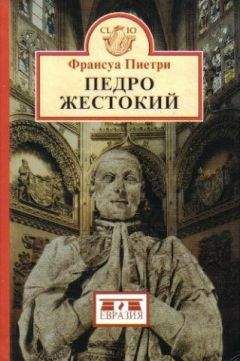В ту ночь мы разговаривали о всякой всячине, нащупывая дорогу друг к другу. Я психолог и владею искусством выуживать информацию из других, но сейчас я могу сказать, что он обо мне узнал больше, чем я о нем. Он студент, почти на двадцать лет моложе меня, очень хорошо образован, прекрасно поставлена речь; кажется, именно образование предрасполагало его к недоверию в отношении gringo. Что из того, что я латиноамериканец по рождению, — мои предки были испанцами, сопquistadores, miхti. И потом, я приехал из Соединенных Штатов, и мир, который я представляю, это, конечно, первый мир, элитарный… старый, как кляча, и торгашеский. Мой новый друг — кечуа по рождению и либерал по убеждениям. Я сразу решил, что он мне не доверяет, и мое уважение к нему возросло.
— Зачем вы всем этим занимаетесь? — спросил он, покачивая одну из складных распорок моей палатки. Мы уже поели вместе, то есть узнали главное друг о друге. Я — кубинец родом, психолог из Калифорнии, провел много лет в Перу. Он — студент, собирается уехать из своей страны за «высшим образованием». Завтрашний чай из коки варится на примусе, дрова в костер подложены, мы устанавливаем палатку.
— Мне всегда этого хотелось, — пожал я плечами. — Я был в Мачу Пикчу много раз, но никогда…
— Извините меня, — сказал он, — я спрашиваю о вашей работе, а не о развлечениях.
Я запнулся. Правду сказать, я был шокирован его грубостью. Латиноамериканцы всегда и неизменно вежливы, и прямые вопросы считаются неучтивыми. И это со стороны незнакомого юноши, вдвое моложе меня. Я взглянул ему в глаза: они были широко раскрыты, и в них было что-то похожее на настоящее любопытство.
— То есть, почему я психолог?
Он кивнул и вежливо улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ.
Долина реки Пакамайо Почему я психолог? Потому что это был самый легкий способ стать взрослым, когда я понял, что никогда не пойду по стопам отца? Потому что это такая гибкая дисциплина: субъективная, построенная на недоказанной теории, смутная, податливая, удобная для интерпретаций? Потому что в этой дисциплине наименьшее количество правил? Потому что врач-психолог имеет дело с людьми, с большим количеством людей на таком уровне интимности, который редко достигается в отношениях? Ничего подобного. Просто я это делаю лучше всего. У меня к этой работе руки чешутся.
Тот, Другой из моих сновидений, оказался восемнадцати — двадцатилетним индейцем, прилежным студентом, который собирается оставить свою родину и поехать, видимо, в мою страну делать себе будущее. Когда я был студентом, я уехал из своей страны ради этого.
Сейчас он спит возле костра, укутавшись в свое пончо. Я предлагал спать вместе в моей палатке, поскольку он хуже оснащен для похода и ночлега, к тому же холодно. Он слишком горд, чтобы принять это предложение. Молодец.
— Потому что, — сказал я, — это дает мне возможность думать о том, что я чувствую, и чувствовать кое-что из того, о чем я думаю. Вполне остроумно. Каков вопрос, таков и ответ.
Он нахмурился и кивнул, словно и в самом деле обдумывая мой ответ. А может быть, он и обдумывал его. Может быть, я ошибся относительно его прилежности.
— Это похоже на изучение истории моего народа, не правда ли? — Он подбросил ветку в огонь и внимательно наблюдал, как ее листья чернеют, скручиваются, вспыхивают пламенем и обращаются в пепел.
— Вашего народа?
— Да, инков. — Он кивнул головой в сторону Рункуракая, который темнел грузной массой за его спиной, на фоне освещенного луной холма. Он посмотрел в огонь костра и стряхнул с себя меланхолию; он весело и открыто улыбнулся мне: — Кто-то сказал, что история инков — это 60 процентов болтовни, 30 — возможного и 10 — правды.
— Вам карты в руки, — сказал я. — Но зачем их изучать? Мы понимаем, что времена инков миновали, и мы не можем переживать их время; но мы тратим наше время, изучая развалины их времени, мы суетимся вокруг разрушенных стен и камней, как если бы это были ключи к их жизни.
— Я не изучаю историю инков, — сказал я, засовывая одну из стоек в чехол.
— Это я ее изучаю, — сказал он, вздохнул глубоко и добавил: — Неизвестно зачем.
Итак, в конце концов я встретился с тем, кто шел по этому пути. Ну и что же? Я оказал ему гостеприимство у моего костра. Мы вместе поужинали. Думаю, завтра утром он уйдет.
Я спрятал дневник и повернул головку фонарика, выключая свет. Синевато-серое серебро просачивалось сквозь ткань палатки с одной стороны, а с другой светилось тускло-оранжевое пятно костра. Я надеялся, что он уйдет утром, потому что не очень жаждал делить с кем-либо остаток путешествия. Странно, я так озабочен был своим одиночеством еще два дня тому назад, а сейчас я просто наслаждался им. Кроме того, он был из молодого поколения: путаный, сердитый, высокомерный, более зрелый, чем я был в его возрасте, потому что новости мира и другая информация распространяются теперь практически со скоростью света и бомбардируют даже Перу. Нет, я, конечно, не отнес его сразу к классу анестезированных циников, усталых от жизни бесцельных подростков; наоборот, его любознательность и решимость пройтись по развалинам предков вызывали восхищение; но то, что он сам не знал, зачем он здесь, и склонен был осуждать собственный интерес, обескураживало. Я был, пожалуй, встревожен встречей с человеком, который уважает свою историю, но сомневается в собственной значимости. Наверное, подумалось мне, когда я теснее натягиваю на себя спальный мешок, я становлюсь старым, и мне уже не понять эту путаницу, это самонаблюдение, весь этот дискомфорт. Нет, не в этом дело. Конечно, я такой же безрассудный и сомневающийся, каким всегда был.
Может быть, все дело-то в том, что это он поднял вопрос о цели, и это мне стало неуютно из-за отсутствия повестки дня, несмотря на то что я так счастлив быть здесь. Я вспоминал предыдущую ночь. И еще сильнее надеялся, что он уже ушел. Я неподвижно лежал в палатке. Было очень рано, всего половина седьмого, и предрассветный холод, конечно, ждал, когда я вылезу из спального мешка и натяну на себя всю одежду, которую потом буду постепенно снимать по мере подъема Солнца. Речка тоже ожидала меня, мечтая довести до посинения мои пальцы, обжечь холодом лицо и потечь за воротник. Я лежал скрючившись в мешке, наслаждаясь последними минутами тепла и от всей души надеясь, что мой друг уже ушел. Теперь это было иначе: желание осталось тем же, причина изменилась — я даже злился на себя за эгоизм минувшей ночи. Может быть, он был каким-то необычайным проявлением моей воли, моих ожиданий и сновидений, даже проявлением независимого от меня духа.
Я выполз из мешка и тут же натянул брюки, прежде чем расстегнуть вход в палатку и встречать рассвет. Его не было. Я быстро осмотрелся: река справа, Хуармихуаньюска, водопад, Рункуракай, джунгли…
Долина Радуг — это долина тумана. Если вообще существует обитель мифов, из которой выходят призраки и куда возвращаются снова, то это она и есть. Темнозеленое месиво тропического леса, заполнявшее пологое дно долины, было окутано Туманом, который, казалось, исходил из переплетенных лиан и отяжелевших листьев и заливал каждое углубление. Этот перенасыщенный туман плотно и неподвижно стоял над деревьями, а по краям леса становился прозрачным, разваливался на клочья, которые цеплялись за крутые склоны, пытаясь выползти наверх. Я выдыхал и наблюдал образующиеся клубки пара; я думал о том, что туман, заполнивший долину Радуг, — это тоже дыхание, дыхание джунглей. На крутом склоне слева от меня происходила демонстрация восхода Солнца: тень Хуармихуаньюски медленно скользила вниз, туда, где прямо из тумана поднимались развалины Рункуракая.
Костер превратился в кучку пепла гранитного оттенка, лишь несколько углей еще светились слабым оранжевым светом в утреннем сумраке да три-четыре струйки дыма вертикально пронизывали неподвижный воздух. И тут я увидел его рюкзак. В тот самый миг, когда я осмысливал его отсутствие, я увидел этот рюкзак, прислоненный к небольшому валуну над потоком. Я увидел, как он приветственно поднял руку и стал подниматься по склону к нашей стоянке. И я почувствовал унылую боль в левой ладони, которую вчера обжег до волдырей.
Я задерживаюсь на подробностях моего знакомства с юношей, который сопровождал меня от долины Пака-майо до Мачу Пикчу, потому что я не могу позволить себе небрежность в моем рассказе. Только располагая и связывая между собой события в том порядке, как они происходили, и восстанавливая наши с ним диалоги, я имею возможность ухватить сущность того, что произошло, и понять, что оно все в конечном счете значило.
К тому времени, когда мы поели, упаковались, наполнили фляжки чаем с кокой и закопали пепел костра, Солнце уже нашло путь в долину; но туман не рассеялся, а засиял сразу тремя радугами: две яркие, отчетливые, и одна тусклая и более отдаленная. Я теперь всегда буду возвращаться в эту долину в своих снах и медитациях. Из всех когда-либо виденных мною зрелищ ни одно не умиротворяло меня так, как вид Мачу Пикчу в сумерках и долина Радуг сразу после рассвета. Очень важно бывает убедиться, что существуют еще на нашей Земле места — одни совсем дикие, другие с печатью человеческого присутствия, — в полном молчании хранящие очарование этого мира. Мы простились с долиной и стали взбираться зигзагообразной тропой по крутому обнаженному склону к развалинам Рункуракая. Наш путь был выложен каменными ступенями, словно вросшими в косогор; отсюда начиналась хорошо сохранившаяся часть Царской Дороги инков.