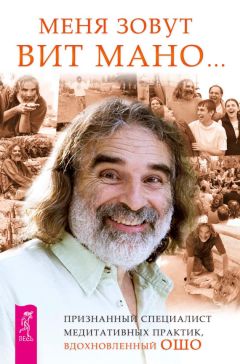– Ну да, – одернулся я, – вам только и дай воли, что людей постращать. Лучше меня, поди,знаете, что человека поманить в прекрасное далеко надобно. Тогда он и загорится за тобой идти. А мы куда зовем? В морг? На кладбище? Так мы все там будем, никого не минует, и стремиться ненадобно. А как оно после того будет, никто доподлинно не знает.
– Мы, паря, никуда не зовем, заруби себе это на носу крепко-накрепко. Не зовем и звать не будем, попомни это. Ибо нет такого места, в которое тебе идти должно, равно как и места нет такого, куда тебе идти не следует. Мамка брюхатая куда угодно идти может, да только утробный ее на одном месте остается, пока не разродится она. Так и тебе выходит: любым путем иди, а все одно, на том же самом месте духом своим стоишь. Слышал, как говорят иногда, будто душа у человека гнилая? Вот и живи в земном так, чтобы дух не зловонил, а народился здоровеньким.
А про грехи я хоть и для красного словца сказывал, но с умыслом все же. Они творятся не против царя небесного или законов небесных, а против духа своего. Грех – это когда твоя плоть над твоим духом царствует. Припомнишь какие-нибудь смертные грехи, ась?
– Прелюбодеяние. Еще обжорство. Лень, кажется, тоже.
– А убийство? Кады один человек намеренно другого жизни лишает? Это смертный грех?
– Кажись, нет.
– Кажись, нет, – язвительно передразнил горбун. – Вот и рассуди: мошну свою набивать в жадности ненасытной, поперек убийства, много хуже выходит. Почему так? А потому это, что жор – это напитание духа твоего желанием плотским. Похоть – это напитание твоего духа желанием плотским. Зависть – это желание плотского. И любой смертный грех – это будто бы намерение погубить дух свой, плотскими нуждами его напитывая. Обрекая его в посмертности своей на муку вечную, неутолимую. От того и грехи эти – смертные.
Но не потому, что накажут за них, а потому, что по смерти своей проклятием они для тебя станутся, ибо не может твой дух иначе жить, чем одним только желанием плотским. Затем и сказано, что коли не варят каши такой в царстве посмертном, что привык ты кушать, то и страдать тебе от того, глядючи, как другие едят.
Так что, паря, если перед смертным часом тебе смерть с косой пригрезится, ты сообрази о том, что коса ее шибко на одну цифру похожая выходит. Угадываешь, на какую?
– На семерку?
– Вот-вот, на семерку, – захихикал горбун. – Аккурат, про эти семь смертных грехов тебе она и напомнит. Так что живи в земном так, чтобы не загнил дух твой плотью зловонной. И тогда, по смерти твоей плотской, душе народившейся легко и радостно будет. Вот так. Вот так. Вот так.
Он вдруг оборвался, посмотрел мне за спину и нетерпеливо застучал костяшками пальцев по столу. Волною воздуха открываемой двери мне окатило спину, вслед за ним заклубило тошнотворным сладким запахом Андрюшкиного чавканья. К нему примешивался другой запах, что-то знакомое, очень знакомое. Но за плотным облаком клубничного перегара я не мог разобрать, что это такое.
Горбун не смотрел на меня. Выражение его лица стало озабоченным, черты обострились, выказав острые углы скул. Я сжался, почувствовав что-то нехорошее.
– Забери у него бумаги, – отрезал горбун.
– Мы закончили? – торопливо спросил я, охватываемый тревогой.
Тяжелая рука навалилась мне на левое плечо, мясо ногтей небрежно подмяло исписанные листы, скомкало их и унесло с собой, назад. Ручки и распечатанная пачка бумаги осталась на столе. Клубничный пар обдал меня сильнее, усилился и второй запах. Кажется, это…
– Насчет мы не ведаю, а лично я закончил, – ледяным голосом сказал горбун.
На голову, на плечи, на спину мне хлынула холодная жидкая вонь. Бензин! В мгновение я понял все и завизжал от страха, отпрянув с табурета на пол и прикрываясь от льющейся на меня вонючей жижи. Руку обожгло и вывернуло в суставе: в своем порыве я позабыл, что прицеплен к столу. Слезы брызнули из глаз. Все тело, каждая клеточка, словно закислило изнутри, пропиталось едкой колючей кислотой. Кое-как я вывернулся, ослабив руку, и как можно дальше заполз под стол. Ужас объял меня, тело забила кислая колкая дрожь, слезы будто выбивало изнутри прищуренных век, укрывающих глаза от бензиновой грязи.
Пустая пластиковая бутыль полетела на пол. Две вытянутые коленки брюк Андрюшеньки плясали перед моим полуослепшим лицом.
– Зря вы так, Дмитрич, –впервые я услышал его голос, тяжелый глухой бас, – сантехники как раз две плиты в подвале подняли, трубы чинят. Там и урыли бы, без лишней суеты. На что оно вам, с огнем-то?..
– Не-е-ет! – заревел я из-под стола, заметался, рвя прикованную руку в кровь. – Да вы что, не надо, нет, не на-а-а-а…
– Заткнись, на хуй! – его ботинок пушечным ядром врезался в ножку стола. – Заткни свое хлебло, более тебя не спрашивают! Так что, Дмитрич, может, туды отволокем? Там я его и кончу враз, зароем, и делу конец. А, Дмитрич?
– Ну, не на-а-а-адо… – выл я, – не надо, не надо, не надо! Может, я не сказал чего, а? Я не все дописал, а? Ведь не все же, да? Не над-о-о-о-о-о…
– Ремонт сделают, – раздалось откуда-то эхо горбуна, – окно прорубить заставлю, без окна дышать совсем нечем, а у меня легкие-то и так не железные…
– Ну, не надо… – ревел я медведем, вцепившись второй рукой в ножку стола, бензиновые слезы катились по лицу. – Не на-а-адо… А-а-а….
Это будет дикая боль, ужасающая боль, все тело, все тело, все тело охватит огнем, тысячи и миллионы ожогов в одно мгновение, от которых нельзя отдернуть руку. А я прикован, а я разорву себе руку, я вырву с мясом эту кисть и даже не почувствую этого, слишком это страшная боль везде, боль повсюду, боль каждого нерва, отчаянный крик, нечеловеческий рев, звериный, яростный, разрывающий на части… Сколько, сколько, сколько, сколько?
Пять секунд? Три секунды? Одна секунда?! Невозможно выдержать больше секунды боль такой изуверской силы. Секунда? Ну, три секунды? Ну, блядь, три секунды только, это же не вечность, а это три секунды только! Остановись, остановись, остановись! Приготовься к боли! Три секунды, только три секунды! Потом лопнет мозг, закипит мозг и полопаются все предохранители его, три секунды сдержись, сможешь, давай, три секунды только, как только спичку поднесут, зажигалку поднесут – ты мертв уже, ты сразу мертв, мозг умрет в ту же секунду, только тело, живая плоть, подрыгается, порвется на свободу, так ведь вот и курица, ей голову с плеч, а она бежит еще, без головы, и боли нет, значит, просто рефлекс, просто программа, три секунды, мгновенная смерть. Ладно… Ладно… Ладно… Кисло как все, что же это такое, будто лимонным соком в раны налили, почему так кислит, почему в нутре разъедающий колючий жгучий уксус?
– Дверь покрасят, – бормотало эхо, – а то поглянь, красочка-то облупилась, вот и пусть ее посошкрябают да заново покрасят. И стол этот опостыл мне, он кровью воняет, не чуешь? Воняет кровью старой. Вот и пущай подкоптит.
Я чувствую себя горбуном, я чувствую, как на груди моей будто непомерная тяжесть, как она давит мне грудь, стесняет грудь, не хватает воздуха, нету силы вздохнуть, кислота под кожей, кислота сочится сквозь поры, кислота разъедает глаза, кислота режет прикованную руку, кислота едкой слюной заполняет рот, кислота, кислота, кислота… Тело, тело, тело за жизнь борется, это оно цепляется, это оно, это не я, это оно, оно пускай, это ведь не я, я не буду, а оно пускай, ему так положено, больно ли душе будет потом, больно ли ей вообще бывает? А телу больно будет, больно будет, больно будет, ужасно больно, смертельно ему больно будет, больно, больно, больно, больно…
– Спички есть? Ну, так доставай, чего ждешь: сказал же, по-моему выйдет! Только отойди потом от него, а то вырвется еще, тебя попалит ненароком.
– Погодите! – заорал я изо всех сил, разрывая воздухом грудь. – Погодите!
Кислота жует мои губы. Я пошевелился и обнаружил, что не чувствую ног. Правая ступня подломилась, и я завалился на бок, едва успев ухватиться рукой за ножку стола. Тело меня не слушалось. Дрожь выворачивала мышцы. Глаза застилала пелена. Три секунды – это три секунды, это только три секунды страшной боли, а затем, затем, затем…
– Погодите! – я сделал попытку встать. – Пусть не по-вашему будет, слышите?! Не будет по-вашему! Подождите, выйти мне дайте! Не будет по-вашему, не будет, суки, не выйдет, как задумывали, не будет, погодите только.