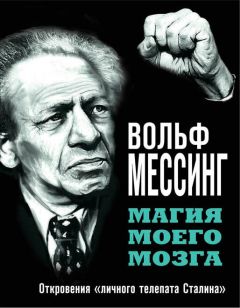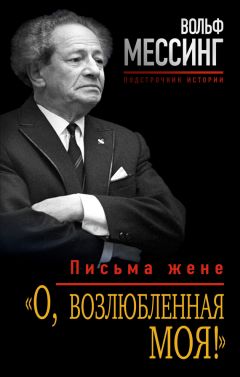Ознакомительная версия.
«Необходимо удостовериться, что связник не лжет», — дал мне задание Абакумов, и меня провели в кабинет следователя, где шел допрос.
Связной выглядел, как пришибленный деревенский парубок, впервые оказавшийся в городе. Я увидел его со спины, приоткрыв дверь в соседний кабинет.
«Так вы утверждаете, гражданин Петренко, — монотонным голосом спрашивал следователь, — что не знаете в лицо того человека, который оставлял донесения в дупле и в проеме каменной кладки?»
«Та нэ знаю я ничого! — заныл парубок. — Забрав, та отдав, и усэ!»
Я даже головой покачал: мыслил этот человек на чистейшем русском. Хорошо притворяясь неграмотным селянином, он лихорадочно искал выход из создавшегося положения.
Мелькнули имена «Петро» и «Павел Казимирович», причем обладатель первого имени представлялся связнику, как боец, человек действия, а второй был важной шишкой, способным помочь — на кого надо, «надавить», кого надо, «подмазать».
Но вот немецкого агента связник, которого на самом-то деле звали Владиславом Ерофеевым, действительно не знал и не видел воочию.
Я передал собранные сведения Абакумову, и тот сразу же зашел в кабинет к следователю. Положил на стол бумагу, где своей рукой записал полученную от меня информацию, и сухо сказал:
«Ознакомьтесь».
Следователь внимательно прочитал, расписался для видимости и продолжил допрос тем же нудным тоном:
«Так вы продолжаете утверждать, что не знали того, кто с вашей помощью выходит на связь с немецкой разведкой?»
«Та ни сном, ни духом, дядьку!»
Следователь внезапно ударил кулаком по столу и гаркнул:
«Говорите правду, гражданин Ерофеев!»
Это подействовало — связник настолько был шокирован и испуган, что чуть не свалился со стула.
«Кто такой Петро? — дожимал его следователь. — Где работает Павел Казимирович? Отвечайте!»
И связник «раскололся».
А для меня настало самое трудное — надо было «вычислить» того самого агента среди офицеров штаба.
Офицерами их называю я, по привычке, поскольку в СССР не существует такого понятия. А метод «вычисления» был прост: мне следовало прослушать мысли работников штаба в естественной обстановке.
Мне вручили папку, где на листах картона были наклеены фото офицеров — из тех снимков, что делают для паспортов и прочих документов.
И вот я должен был с нею ходить туда-сюда и помечать, кто агнец, а кто — козлище. Подобную процедуру я освоил еще лет десять назад или даже раньше, когда по просьбе князя Чарторыйского искал похитителя ценнейшей диадемы.
Признаться, первым делом я отправился в буфет, поскольку был до того голоден, что меня подташнивало и кружилась голова.
Перехватив сладких пирожков с чаем, я взбодрился — и сразу же занялся своими обязанностями.
Работники штаба, озабоченно сновавшие по коридорам, заглядывали и в буфет и попадали в поле моего зрения.
О чем думали офицеры штаба? Да о чем угодно — о карьере, о том, что некий Григорий Палыч засиделся на своем месте, о встрече с женщиной, о культпоходе в театр. О службе они тоже думали.
Битый час я просидел в буфете и послонялся около, после чего решил пройтись по зданию штаба.
Если же меня будут спрашивать иные рьяные блюстители дисциплины, кто я таков и что делаю на режимном объекте, то я должен был ответить — я, дескать, к Денису Ивановичу.
Так мне велел говорить Абакумов, а уж кто это такой — Денис Иванович — я понятия не имел.
Правда, подозрений особых я не вызывал — в приличном костюме, в очках, с папкой в руке, — я выделялся лишь своим партикулярным одеянием, но не все в штабе ходили в военной форме.
Все больше количество «галочек» я выставлял против фотографий, все меньше оставалось не прошедших проверку.
И вдруг, когда я спускался по лестнице, меня остановил строгий голос:
«Что вы тут делаете, гражданин?»
Я обернулся и увидел грузноватого человека в мундире, один из рукавов которого был пуст. В единственной — правой — руке он нес толстый портфель, а лицо, порядком обрюзгшее, выражало недовольство и скуку.
«Я ищу Дениса Иваныча», — отрапортовал я.
«Денис Иванович отбыл в Фастов и сегодня не будет».
Однорукий нахмурился — все это время я смотрел на него как зачарованный.
Его звали Йозеф Брудер, и думал он на своем родном языке.
Скучал по Марте, оставшейся в Дортмунде, насмешничал над русскими «недочеловеками», не доросшими до «орднунга», мечтал о поместье где-нибудь на Украине, когда доблестный вермахт захватит те земли и сделает их житницей Третьего рейха.
Уловил я и переживания — исчез связной.
Брудер вскинул голову и спросил с надменностью истинного арийца:
«Ваши документы, гражданин?»
Не зная, как лучше выпутаться, я ляпнул по-немецки:
«А ваши, господин Брудер?»
Лицо однорукого исказилось. Отступив, он бросил портфель и стал расстегивать кобуру.
Я стоял, оцепенев, и даже не пытался оказать сопротивление.
Но тут, откуда ни возьмись, подскочили молодцы Абакумова и скрутили агента абвера.
Потом появился сам Абакумов и сухо сказал мне: «Спасибо».
Вот и вся история. А я по-прежнему готов оказать всякое содействие органам советской власти.
В. Мессинг».
Из записок В. Г. Финка:
«22 июня 1941 года мы с Вольфом встретили в Тбилиси. Было тепло, очень хорошо — мы гуляли по городу, беседовали, попробовали настоящее грузинское вино — домашнее, густое и пахучее.
А потом, когда мы расхаживали по аллеям парка на вершине горы Мтацминда, я заметил, как Вольф нахмурился вдруг, стал нервно и как-то даже беспомощно оглядываться.
«Чего ты?» — удивился я.
«Вить, — сказал Вольф напряженным голосом, — я все это уже видел. Понимаешь? Ну, как бы пророчество было!»
«Что, это самое место?»
«Это самое! Я только не знал, в какой день! А теперь знаю…»
«Да что случилось-то?» — встревожился я, подумав, не заболел ли мой друг. У него было такое лицо…
«Со мной все в порядке, — сказал Мессинг, — но сегодня началась война. Фашисты напали на нас!»
Я испытал тогда противоречивые чувства. Оснований не верить Вольфу у меня не было совершенно — это был честнейший человек, который, кстати, совсем не умел шутить. Поэтому мелькнувшую мысль о розыгрыше я сразу же отбросил.
«Если бы розыгрыш…» — вздохнул Мессинг.
И все же война — это настолько громадно, настолько всеобъемлюще. Ведь изменится вся жизнь — планы, чаянья, мечты миллионов людей рассеются в прах. Жестокая борьба с опасным врагом потребует крайнего напряжения сил всего народа.
Вольф не однажды рассказывал о гитлеровцах в Польше, поэтому в то, что мы одержим скорую и легкую победу «малой кровью», я не верил. Конечно же, мы победим, обязательно одолеем врага, но это потребует немалого времени и множества жертв.
Именно поэтому мне и не хотелось, отчаянно не хотелось верить в то, что Вольф не ошибся.
И тут, словно в подтверждение словам Вольфа, заработали громкоговорители на столбе. Их квадратные рупоры разнесли по парку сдержанный голос Молотова:
«Граждане и гражданки! Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление: сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более двухсот человек…»
Я стоял, не двигаясь. Все рухнуло. Отныне моя жизнь круто изменится, станет совсем другой или вообще будет отнята.
«Тебя не убьют на войне», — успокоил меня Вольф.
Я лишь криво усмехнулся. В первое время я чувствовал себя скованно рядом с этим человеком, читавшим мои мысли, но быстро привык. Мессинг никогда не стремился специально «подглядывать» за потоком моего сознания, а чтобы «взять» мысль, как он выражается, ему нужно было несколько сосредоточиться.
Так вот, из этических соображений он этого не делал, чтобы мы не чувствовали неловкости — мало ли какие мысли появляются у человека! Никто из нас, включая и самого Мессинга, не властен над собственным мозгом.
Находясь в досаде или в раздражении, можем пожелать смерти близкому или представить себе его смерть — мы не хотим подобного исхода, отвергаем саму возможность его, но мысли об этом приходят к нам в голову, словно кто недобрый и могущественный вкладывает их нам.
«Нам надо срочно возвращаться в Москву, — сказал я. — Прямо сейчас. Иначе мы здесь застрянем, а для нас это опасно».
«Не понимаю», — признался Вольф.
Забавно, что он с искренней радостью принял звание советского человека, но опыт жизни за границей тяготел над Мессингом, частенько придавая его словам и поступкам налет наивности.
Ознакомительная версия.