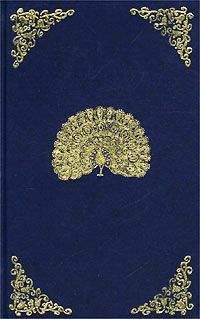Ознакомительная версия.
Я смотрел неотрывно вперёд, на видневшееся вдали море; смотрел на сад, спускавшийся к морю, не узнавая ландшафта, и не мог ничего понять. Я спросил доктора, почему я здесь живу? Ведь мой дом в долине у самого моря, а здесь, высоко на горе, я никогда не был и не знаю этого места.
Лицо доктора было очень серьёзно, хотя и очень спокойно. Он взял мою руку, держа её, как считают пульс, но я был уверен, что он только хотел передать мне часть своей энергии и бодрости.
– Если ты хочешь видеть няню, — тихо сказал он, поглаживая свободной рукой мои волосы, — я могу её позвать. Но я хотел тебе сказать, мой мальчик, что ты уже почти мужчина, а няня твоя слаба и стара. Ей, вероятно, придется сообщить тебе кое-что неприятное. Старайся быть спокойным; думай, как бы облегчить ей эту трудную минуту. Забудь о своём горе, если оно тебя поразит; старайся только не допустить себя до слёз, чтобы старушка видела, что она вырастила мужчину, а не бабу в панталонах.
Он повернулся к двери и сказал по-итальянски кому-то, чтобы привели мою няню. Затем снова приняв прежнее положение, стал ласково гладить мои волосы, тихо говоря:
– Всё движется в жизни, мой мальчик. В жизни человека не может быть ни мгновения остановки. Двигаясь по своим делам и встречам, человек растет и меняется непрестанно. Всё, что носит в себе сознание как логическую мысль, всё меняется, расширяясь в мудрости. Если же человек не умеет принимать мудро изменяющихся обстоятельств, не умеет стать для них направляющей силой, — они его задавят, как мороз давит жизнь грибов, как сушь уничтожает жизнь плесени. И, конечно, тот человек, кто не умеет — сам изменяясь — понести легко и просто на своих плечах новые обстоятельства, будет равен грибу или плесени, а не блеску закаляющейся и растущей в борьбе творческой мысли.
Я слушал и вбирал жадно каждое его слово, не спуская с него глаз. Добрейшее лицо его и мягко гладившая мои волосы рука точно передавали мне любовь и мужество. Я вдруг осознал, что возле меня стоит друг, такой величавый друг, рука которого не только опора для меня в эту минуту, но крепость её такова, что вся жизнь моя не может отягчить той любви, что горит в этом человеке.
Какое-то почти благоговейное живительное чувство радости, благодарности, не испытанной ещё мною, уверенности и мужества наполнили меня. Я поднёс к губам нежно гладившую меня руку, поцеловал её и ответил ему:
– Я буду стараться быть всегда мужественным. О, как бы я хотел быть таким, как вы, добрым, умным и сильным.
Как подле вас мне чудно хорошо. Я точно вырос и весь переменился.
Он обнял меня, прижал к себе, поцеловал в лоб и сказал: — Будь же мужествен сейчас. Как перенесёшь ты встречу с няней, точно так начнёшь и свою новую жизнь.
С этими словами он меня покинул, и через минуту в комнату вошла моя няня.
Она вообще была старенькая, но сейчас я увидел перед собою совершенную руину. Но насколько поразила её внешность меня, настолько же, вероятно, перемена во мне ужаснула её.
Не успела она подойти ко мне, как всплеснула руками, закричала, заплакала, встала на колени на подножку моего кресла, схватила мои руки и так зарыдала, что мужество в моём сердце стало таять, как воск.
Хотя я и вырос в стране, где экзальтированные чувства легко обнажались в криках и жестах, хотя я с детства знал чисто итальянскую, особенно характерную экзальтацию моей няни, вспыхивавшую, как спичка, сразу до яркого огня и так же мгновенно потухавшую, но на этот раз в её рыданиях было столько горечи и отчаяния, что я не мог найти слов, чтобы её утешить. Среди её причитаний я мог разобрать как припев: «Мой несчастный мальчик! Мой дорогой сиротка, у тебя нет даже родины».
Какое-то смутное воспоминание начинало меня давить. Мысли, как тяжёлые жернова, ворочались трудно и обрели весомость. Я до сих пор помню ощущение в голове, необыкновенно странное, какого я больше в жизни не знавал. Мне казалось, что я ощущаю, как в моих мозговых полушариях происходит какое-то чисто физическое движение, которое я и принял за тяжело шевелящиеся мысли. Должно быть, вся кровь прилила к голове: я почувствовал острую боль в сердце, как укол длинной иглы, и вдруг, сразу, точно в свете мелькнувшей молнии, вспомнил всё.
Не знаю, потерял ли я сознание в эту минуту, но отчётливо понял, что все картины пережитого, одну за другой, я ясно и точно увидел...
Когда я смог соображать, я увидел возле себя Ананду и только теперь понял, что это он шептал мне в трюме парохода: «Я спасу тебя, мальчик».
Ананда глядел на меня сосредоточенно и подал мне какое-то питье. Я выпил и сказал ему:
– Благодарю вас. Благодарю за жизнь, которую вы мне спасли. Нет, не надо, — я отвёл его руку с новым лекарством, — и теперь уже не лекарство может вылечить меня, а тот пример любви и заботы о чужом, брошенном человеке, который я здесь нашёл.
Не понимаю, каким образом я всё забыл. Я только тогда всё вспомнил, когда голос няни и её причитанья вернули меня в детство. И когда я услышал, что у меня пет даже родины, — я вспомнил всё сразу.
Я не мог ещё долгое время собраться с силами; дыханье моё стало так тяжело, точно мои лёгкие сдавил приступ астмы. Ананда уговорил меня выпить каких-то капель, положил на блюдечко пучок жёлтой сухой травы и поджёг её. Вскоре она задымилась, распространяя сильный аромат, и мне стало лучше.
– Где я сейчас? Это ваш дом? — спросил я Ананду. — Это Сицилия, — ответил он мне. — Вы здесь в полной безопасности. Это дом доктора. На вашей родине резня восставших друг на друга партий ещё не прекратилась, и бедствия продолжают сыпаться на головы ни в чём неповинных людей. Фанатики-политики режут не только друг друга, но даже иностранцев, что грозит войной всей вашей стране. Всё это очень подробно вы узнаете из газет, которые я для вас сохранил. Вы больны уже больше двух месяцев. И весь первый месяц мой дядя каждый день опасался, что ему не удастся вырвать вас у смерти. Только на второй месяц вашей болезни он сказал мне, что вы в безопасности. А за две недели он точно определил день, в который к вам вернётся сознание. Одно время он опасался неполноценного возврата вашего сознания. И потеря памяти могла вообще распространиться на весь ход ваших мыслей. Свидание с няней он считал моментом перелома, как оно и случилось на самом деле.
Далее он рассказал мне подробно, как я был перенесён в их каюту на пароходе, как они оба с дядей дежурили по очереди у моей постели и как в беспамятстве и бреду я рассказывал им много раз всю свою историю, вплоть до посадки на пароход. Он спросил, не помню ли я, каким образом попал в трюм. Я не помнил или, может быть, даже не понимал, где этот трюм. Но помнил, что искал место, где бы спрятаться от людей и выплакать своё горе.
– Дальше история моя сложилась просто, — продолжал И. — Не буду вам рассказывать, сколько раз в моём сердце чередовались бури отчаяния, негодования и безысходного горя. Сколько раз я терзал сердца моих благодетелей и няни своими дикими рыданиями. Скажу только, что каждый из приступов моего раздражения не вызывал ни негодования, ни упрёков моих новых друзей. Постепенно атмосфера постоянной ласки и высокой культурности стала вводить и меня в колею выдержки. Я понял, увидел наглядно, как я невежествен, что веду себя неделикатно, нарушая тихий ритм жизни моих спасителей, заполненной целиком научной работой доктора и диссертацией, которую тогда писал Ананда.
Я уже мог выходить, бродил по саду, даже спускался к морю. Но читать доктор мне не позволял, сказав, что если хоть одна неделя пройдёт без слёз, — он разрешит мне читать. Желанье начать читать и учиться было так велико, что я выдержал характер и ни разу не обнаружил своего горя, доверяя его только подушке по ночам.
Однажды в праздничный день доктор велел заложить коляску, и мы поехали с ним прокатиться, чтобы я мог полюбоваться красотами Сицилии. Природа казалась мне волшебной сказкой.
По дороге доктор спросил меня, хорошо ли я знаю историю своей родины. К стыду своему, я должен был признаться, что совсем не знаю. По возвращении с прогулки доктор провёл меня в свой кабинет, где было так много книг, что я даже сел от изумления. Не только стены были ими заставлены, но через всю комнату шли до потолка полки с книгами, образуя узкие коридоры, в каждом из которых стояла передвижная лесенка. Доктор вошёл в один из книжных коридоров и достал мне историю Древней Греции на немецком языке.
С этого дня началось моё обучение. Каждый из моих новых друзей находил возможность отрываться от своих дел, чтобы заниматься со мной. Я старался изо всех сил, так что моей старушке няне приходилось жаловаться на своё одиночество; и только это заставляло меня бросать книги и уроки и идти с нею к морю.
Я обнаружил способности к математике, и мне дали шутливое прозвище «Эвклид». Так меня и звали мои наставники, одна няня кликала меня Лоллионом.
Ознакомительная версия.