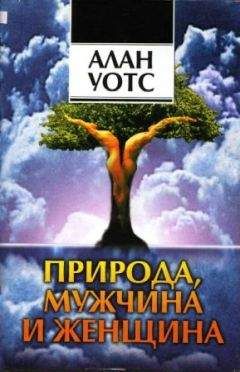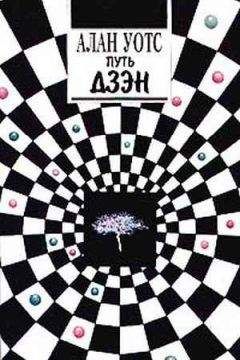Идею о жертвоприношении можно отстаивать, утверждая, что Бог использует сексуальную энергию своего земного избранника для других целей, направляя ее на молитву или благие поступки. Против этого нечего возразить — при условии, что не исключена возможность, что Бог пожелает использовать ее для собственно сексуальной деятельности, которая при этом становится не менее священной, чем молитва и давание милостыни. Последователи сверхъестественного мистицизма дают нам очень мало примеров подобных признаний, — если не принимать во внимание мусульманские традиции, которые в значительной степени свободны от сексуальных предрассудков. Так, христианская духовная литература изобилует описаниями греховных аспектов сексуальности. Она практически ничего не говорит о том, каким должен быть священный секс, — кроме, быть может, упоминаний, что следует ограничиться одним партнером, занимаясь любовью исключительно для продолжения рода в одном-единственном физическом положении!
Христианство, опирающееся на иудейские традиции, лишь теоретически допускает, что брак может быть столь же священным, как девственность.[67] Между тем уважение к физическим вещам, столь свойственное для древних иудеев, практически не оказало влияния на духовную атмосферу и практику христианства. Ведь с самого начала отцы церкви практически уравняли секс с грехом, отождествив сексуальные чувства и желания с порочным вожделением. В то же время, выступая против гностиков и манихеев, отцы церкви утверждали, что само физическое тело и его половые органы как творение Бога по существу чисты. Вот что св. Августин говорит об «идеальной» сексуальности, какой она могла быть только до грехопадения:
Эти члены, как и другие, подчинялись воле, и муж сливался с лоном жены не в порыве вожделенной страсти, а со спокойным умом, не нарушая невинности тела… Не дикое пламя приводило в движение эти части тела. Они подчинялись, как и положено, велению разума. Поэтому семя так же невинно проникало в лоно женщины через ее гениталии, как менструальный поток тетерь исходит оттуда.[68]
Отношение сверхъестественного мистицизма к сексуальности прослеживается безошибочно. Это отношение отрицательно, причем оно не меняется в результате отделения сексуальной механики от сексуальных чувств — в результате чего неизбежно нарушается целостность ума и тела. Практически, если не теоретически, в основе подобного отношения лежит чувство, что Бог и природа несовместимы. Предполагается, что природа тогда была совсем не такой, какой мы ее переживаем сейчас. Если верить св. Августину, природа тогда была так же далека от спонтанности, как искусственное оплодотворение.
Однако практический смысл философии, в которой Бог и природа несовместимы, оказывается довольно неожиданным. Ведь если познание Бога и любовь к нему несовместимы с другими целями и другими существами, тем самым Бог низводится на уровень своих творений. Познание Бога и познание сотворенных существ исключают друг друга только в том случае, когда они однотипны. Нам иногда приходится выбирать между желтым и голубым, как между двумя цветами, но нет никакой необходимости выбирать между желтым и круглым, потому что круглое вполне может быть голубым. Если Бог универсален, познание Бога должно включать в себя все другие разновидности познания, как способность видеть распространяется на все видимые объекты. Однако если глаз попытается увидеть саму способность видеть, он должен будет всматриваться в самого себя и поэтому не увидит ничего.
Фактически, безбрачие более уместно в случае некоторых «мирских» профессий, чем в случае духовных, потому что можно быть одновременно мудрецом и врачом или художником, но невозможно совмещать семейную жизнь с некоторыми творческими начинаниями. Латинская пословица говорит: aut libri aut liberi — или книги, или дети. Однако посвящение себя духовной жизни едва ли может быть специализацией на уровне писательства, медицины или математики, поскольку объект духовности, Бог, не является специалистом. Если бы это было не так, вселенная состояла бы из одних только формальных религиозных творений — библий, церквей, монастырей, четок, молитвенников и ангелов.
Святость или мудрость как призвание, которое исключает другие, является симптомом исключающего образа восприятия вообще и неполноценного духовного сознания в частности. Основное предположение такого сознания состоит в том, что Бог и природа противостоят друг другу и поэтому человек должен выбрать что-то одно. Эта точка зрения дуалистична, и поэтому я всегда удивляюсь, когда встречаю ее в традициях, которые осуждают дуализм. Между тем подобная непоследовательность свойственна для недуалистических традиций, таких, как веданта и буддизм. Однако заблуждение, которое ее порождает, тоже очень поучительно.
Мы видели, что отождествление сексуальности и природы с силами зла проистекает из веры в то, что сила и ясность сознания зависят от развития узконаправленного, исключающего внимания. Другими словами, этот тип внимания привязывается к очертанию и не видит фона. Такое внимание постигает мир фрагментарно — по одной вещи на один раз. Однако именно это является смыслом индуистско-буддистского понятия авидья, неведение или «не-видение» — глубинная бессознательность, в результате которой кажется, что вселенная является совокупностью отдельных вещей и событий. И только Будда, или «пробужденный», преодолевает эту бессознательность и избавляется от чар «сакая-дришти» (видения разделенности). Он видит каждую «часть» природы вне иллюзии (майя), которая основывается на «измерении» (ма-, матр-) — на разделении мира на исчислимые классы вещей и событий. Вследствие такого разделения мир представляется нам двойственным (двайта), однако, с просветленной точки зрения, он неделим, недуалисгичен (адвайта) и в своем изначальном состоянии тождествен Брахману — неизмеримой, бесконечной реальности.
Поэтому мир как совокупность отдельных вещей является порождением мысли. Майя, или же измерение и классификация, есть результат действия разума — и поэтому является «матерью» (мата) абстрактного представления о природе. Майя иллюзорна в том смысле, что природа разделена таким образом исключительно в нашем сознании. Майя есть зло лишь в том случае, когда видение разделенного мира не является частным случаем видения неделимого мира, — когда, другими словами, разум увлекается анализом до такой степени, что «перестает за деревьями замечать лес».
Индийская философская мысль попадает в ту самую ловушку, которой она пыталась избежать. Она принимает абстрактный мир майи за конкретный физический мир природы или непосредственных переживаний, а затем ищет освобождения от природы в состоянии сознания, которое оторвано от чувственных переживаний. Она интерпретирует майю как иллюзию, а не как ощущения, увиденные через призму мысли. Чтобы исключить из сознания другие чувственные переживания, которые рассматриваются как препятствие на пути к духовному постижению, в многочисленных разновидностях йоги практикуется длительное, фрагментарное сосредоточение на одной конкретной точке — авидья! Между тем чувственные переживания ассоциируются с женщиной не только как с источником удовольствия, но и как с «причиной» рождения в мире природы. Поэтому женщина начинает казаться воплощением «майи», Космической Соблазнительницы.
Таким образом, отождествление майи с природой и женщиной является классическим примером действия самой майи — в результате чего мир абстракций рассматривается как реальный мир. Но хотя «майя» иносказательно является «матерью» порожденного таким образом мира, само «порождение» не обошлось без мужского начала. Как всегда, мужчина соблазняется, а потом заявляет, что по всем виновата женщина! А началось все с Адама, который сказал Богу: «Жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3, 12).
Именно поэтому индийская философия фактически стала архетипом дуалистической системы, отрицающей мир. В поисках освобождения от чувственных переживании она невольно стала жертвой майи. Пытаясь освободиться от майи как от конкретного мира природы, она все больше погружается в иллюзию, которая заставляет нас считать, что наши представления являются реальным миром. При этом индийская философия забывает, что органы чувств сами по себе невинны и что источник самообмана всегда находится в мыслях и в воображении.[69]
Заблуждения такого рода не позволяют нам увидеть, каким образом сексуальность и чувственные переживания становятся собственно майей. При этом ум требует от природы больше, чем она может дать. При этом мы преследуем изолированные аспекты природы с целью извлечь из них радость без страдания, удовольствие без боли. Таким образом, желание сексуального переживания является майей до тех пор, пока оно остается желанием воображения, на которое организм отвечает неохотно или не отвечает вообще. Стилизованные или идеализированные представления о женской красоте являются майей, когда, как это часто бывает, они имеют очень мало общего с реальными женщинами. Любовь, указывает де Ружмо, есть майя, когда это влюбленность во влюбленность, а не когда она выражается в отношениях с конкретной женщиной. Таким образом, майя — это абстрактная Женщина.