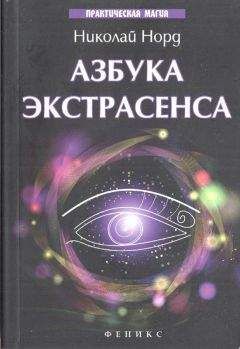А надо сказать, что в камере нас было четверо — кроме меня двое верзил гоп-стопников сидели и дед еще один лет под девяносто — совершенная развалина. Его за убийство взяли, он насильника своей внучки, девки еще неопушенной, зарезал — а посмотреть на него, откуда и силы-то взялись?
Ну, вот этот дедок как-то на вечерней заре, после ужина, подсел ко мне на шконку, приобнял за талию дружески, да и стал нашептывать:
— Кончай, парень, хандрить, надо отсюда ноги делать! Знаю я, тебе срок грозит большой, незаслуженный. Молодость твоя пропадет ни за гулькин нос. А тебе это надо? Да и я тут до суда не дотяну, помру, здоровье совсем никудышное, а мне внучку еще повидать надо, наследство ей передать.
Слушал я дедка, и слова его будто мне сердце глади-ли, только какой с него беглец — еле-еле душа в теле?
— А у тебя, отец, что — деньги, небось, немалые водятся, чтоб тюремщиков подкупить? Внучке, вон, наследство оставляешь. Только мне невдомек — зачем я-то тебе?
— Наследство мое, сынок, есть наследство нерукотворное, это наследство духа… А от тебя мне твоя сила нужна, физическая сила и энергия — ты парень справный, крепкий, а главное, — я ведь к тебе давно присматриваюсь — сердцем чист. Для нашего дела это очень важно, — убеждал меня старик таким драматическим голосом. — Чую, с тобой фарт под ручку ходит!
Я глянул в его глаза и увидел за ними снег, меня аж озноб хватил, голова закружилась, язык к небу присох, в ответ ничего сказать не могу. А дедок этот так вкрадчиво продолжил:
— Если я внучке наследство не передам, то мне придется тебе его передать, иначе я помереть не смогу. Чуешь? — на его лице коротко мелькнула покоряющая, с дьявольским налетом, улыбка.
— Да не ведьмак ли ты, дедушка? — отшатнулся я от него в полной догадке.
Вместо ответа дед тер руки и качал головой, надувая щеки. Внешне он казался безумным. Между нами установилась неловкая тишина.
— Сегодня ночью и убежим, — наконец, шепотом ответил дедок, оглядываясь на гопников, которые играли за столом в карты, вовсе нас не слушая. — На лодке уплывем, вот там твоя сила и нужна будет. Чтобы грести быстро! — хлопнул он веками обоих глаз, словно филин. — Отдыхай пока, сил набирайся, я тебя разбужу ночью…
Он вернулся на свою шконку, отвернулся к стене и сразу же захрапел, как ни в чем не бывало. Я же еще некоторое время размышлял над его словами, думая, не сбрендил ли ведьмак на старости лет? А потом и сам заснул незаметно…
Посреди ночи чую, кто-то меня за плечо трясет, открываю глаза — дедок надо мной с зажженным фитильком стоит, палец к губам прижимает — молчи, мол. Я поднялся, он мне фитиль в руку дал, а сам из штанов кусок извести достал и на полу лодку нарисовал — как положено, с сидушками, кормой. Потом жестом пригласил меня — мол, садись. Я сел послушно в нарисованную лодку, только чтобы его не раздражать — боялся, что проклянет черт безлошадный. А дедок взял швабру, которой мы пол в камере подтирали, тоже сел в «лодку», а швабру эту мне в руки дал:
— Греби давай! — а свечу задул.
Я в темноте стал шваброй орудовать, будто веслом. Она поначалу просто по воздуху моталась, а потом чую, будто швабра с сопротивлением каким-то ходит, будто правда весло в воду окунается. Потом вдруг свежим речным, прохладным ветерком пахнуло, гляжу — а мы уже и впрямь в тумане по реке плывем в настоящей лодке. Я диву дивлюсь, но помалкиваю, страшен дедок мне стал.
А он в это время говорит:
— Греби, парень, вон туда, — и пальцем показывает.
Я изменил направление — швабра, конечно, не весло, но потихоньку гребу все же. Таким макаром проплыли мы еще немного, и лодка в берег тюкнулась.
— Выходи, приехали, — сказал дед и швабру у меня забрал.
— А где мы?
— На Дунае, к Измаилу причалили.
Я подивился сказанному, ведь от Измаила до Тулчи, где мы пребывали в тюрьме, расстояние верст пятьдесят. Правда, виду не подал, а только сказал:
— Так тут же теперь русские стоят!
— Вот и иди к ним, назад в Румынию не возвращайся, иначе опять в тюрьму попадешь.
— А ты, отец, как же?
— Обо мне не заботься, я свои проблемы сам решу…
Ну, дед отплыл, а я пошел в город, там меня патруль задержал, уже советский, подержали в обезьяннике денек, пока выясняли кто я да что, а потом предложили в Советскую Армию идти добровольно. Я и пошел — а куда деваться было? Ну, а дальше ты все знаешь: вскоре война пришла, потом контузия, госпиталь в Новосибирске — так тут и остался насовсем…
Вот такую историю с телепортацией рассказал мне мой тесть, в которую ныне я вполне склонен верить. Тем более что нечто похожее я когда-то испытал в детстве, будучи учеником четвертого класса, однако объяснить тогда свое приключение я толком не мог и даже никому ничего не сказал, дабы не засмеяли. В итоге, моя собственная история неосознанно была похоронена в глубинах моей памяти и выужена оттуда вновь спустя десятилетия.
А дело было так: с началом нового учебного года у нас в четвертом классе появился новичок — Петя Вавуло, толстый, неуклюжий и женоподобный мальчик, сын какого-то высокопоставленного военного — то ли полковника, то ли генерала, которого перевели в наш город на службу. Так этого Петю, тихого и красногубого паиньку, похожего на голубя с веткой мира в зубах, обижали все кому не лень. Бить, конечно, никто его не бил, но шутили зло: то петухом из-под парты кричать заставляли, то в рупор физруку наплюют, а на несчастного Петю свалят. Завидовали. Он был отличник, из богатеев, а в нашей школе в основном беднота из рабочих семей обучалась. Но чего у пацана нельзя было отнять, так это то, что он все терпел и не жаловался ни учителям, ни родителям, иначе в школе такого шороху бы навели!
А однажды, когда на перемене пацаны измывались над ним в очередной раз, я заступился за безответного Петю, отбил налетчиков, после чего Петя прилюдно, у всех на глазах, подскочил ко мне и поцеловал в щеку пухлыми и влажными, как у рыбы, губами.
Я, признаться, опешил. Такой его поступок был недостоин мужчины, хоть и круглого отличника, и казался мне совершенно бабьим, постыдным, отчего часть этого постыдства как то бочком легла и на меня. Но все это было Петей сделано так искренне, с такой сиятельной благодарностью, что вся моя сердитость тут же рассеялась. Тем не менее, после уроков на улице я ему по-дружески объяснил, что негоже пацанам так выражать свою признательность, лучше пожать руку или приятельски похлопать по плечу, ну, на худой конец, просто устно поблагодарить, что Вавуло тут же горячо и незамедлительно сделал еще раз.
Но не в этом дело, а в том, что с тех пор малый возлюбил меня, словно брата родного, и я стал частым гостем в его доме. А надо сказать, что тогда основное население Советского Союза было утрамбовано целыми семьями по комнатушкам в перенаселенных коммуналках, словно сельдь в бочках. Петя же, по сравнению с этим пролетарским большинством, жил в совершенной роскоши: вместе с неработающей мамой и военным-па-пой они занимали отдельную трехкомнатную полногабаритную квартиру в сталинском доме.
Квартира эта имела паркетный пол, как у нас в школе, была прилично обставлена и полна увлекательнейших книжек и игрушек, начиная от детской железной дороги и армии оловянных солдатиков и кончая армейским биноклем и кинопроектором для просмотра всяких мультиков. К тому же у Петюни — так называли его родители, и так теперь его стал называть и я — дома всегда были дорогие конфеты, фрукты, пирожное и всегда приветливая мама. И она любила музицировать на белом «Зайлере» и никогда в жизни не могла подумать, что у ее сыночка наконец-то появится настоящий друг, вроде меня. Почему же мне было не ходить сюда почаще? Но только эта мама — женщина молодая, высокая и красивая (даже будучи пацаном, я это прекрасно осознавал) всегда перед тем, как угощать нас пирожными с чаем, требовала мыть руки.
И вот однажды я прошел в данную, чтобы выполнить эту водную процедуру перед полдником, и вдруг увидел, как стена слева от меня словно бы растворяется, и за ней обнаружилась лесная лужайка, на которой росли цветы, летали стрекозы и бабочки, а на пеньке что-то грыз бурундук, держа еду в лапках. Я был так заворожен, что почти сделал шаг в направлении открывшейся панорамы, испугав убежавшего бурундука, но что-то сдержало меня, и живая картина исчезла. Она простояла передо мной в общей сложности секунд пять или десять, и я потом не мог понять: то ли я на ходу заснул, то ли мне это просто привиделось. Впрочем, в детстве со мной приключалось немало чудесных вещей, так что я не придал особого значения этому случаю.