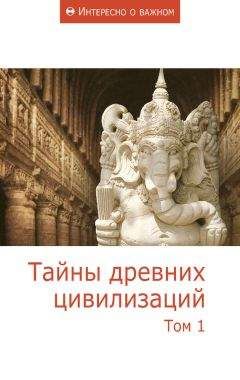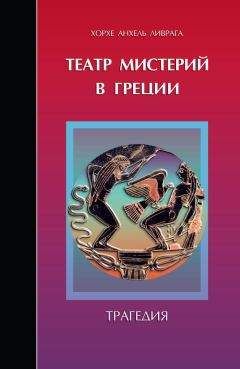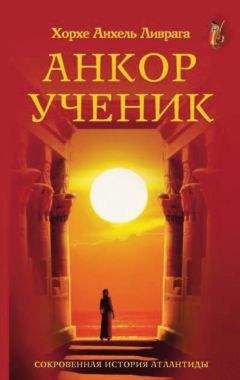Бывало так: шаман начинает свое ритуальное действие, и вдруг духи начинают ему мешать. Он спрашивает: «В чем дело?» Соответствующий дух говорит: «У входа сидит русский, если он не уйдет, я тебе помогать не буду».
Зачастую они между собой ссорятся. Шаман начинает их мирить. Не всегда это удается. На это тратится очень большая внутренняя энергия.
Говорят, что есть белые и черные шаманы. Это тоже связано с духами?
Это колдуны и жрецы, о которых я уже говорил. Шаман может выступать в качестве колдуна, когда камлает на нижний мир, и в качестве жреца, когда на верхний. Но колдун не может выступать в качестве шамана, обратной связи нет.
Существует историческая эволюция шаманства. В преддверии возникновения шаманизма эти две стороны шамана проявлялись отдельно. Когда-то были жрецы (домашнего уровня) и колдуны. Так, например, у наиболее отсталых сибирских народов жена исполняет обязанности колдуньи, а муж в основном обращается к добрым богам. А потом две стороны соединились, плюс и минус соединились, и это было великое благо. А на каких-то поздних стадиях они опять стали разъединяться.
Бубны кельтов
Тунгусский шаман с оленьими рогами на голове (с рис. Витзена)
Тунгусские бубны
Алтайский бубен
Реконструкция одежды «шаманки» по украшениям, найденным в погребении.
Усть-Уда
Итак, настоящий шаман объединяет в себе и колдуна, и жреца, и добро, и зло – нет полярности между добром и злом?
Этот вопрос меня очень интересует. Дело вот в чем. Все традиции прошли через шаманизм. А вот сибирское язычество и восточные религиозно-философские системы имеют очень много общего в своих главных смыслах. Там и цикличность развития мира, и равноправие добра и зла, и сходная система реинкарнации и т. д. Шаманизм такой может сформироваться только по соседству. Ламаизм, азиатское язычество имеют общие генетические истоки. Если предположить, что сибирский шаманизм не был бы разрушен, то со временем он мог бы превратиться в нечто типа даосизма, ламаизма и т. д.
А как работала система передачи знаний? Вы говорили, что шаманом человек часто становился не по своей воле.
Вообще института ученичества у шаманов практически нет. Если шаман изначально не сильный, то сильным он никогда не будет, научиться этому нельзя. Самыми сильными были шаманы из того или иного шаманского древнего рода, существовали целые династии, из поколения в поколение шаманство передавалось. У человека из этого рода изначально могла быть предрасположенность к шаманству. Когда приходила пора реализовать свое предназначение, начиналась знаменитая шаманская болезнь. Духи начинали преследовать человека, два-три года, а порой и больше, он изнемогал, убегал, но они везде его находили. И он, как правило, или умирал, или становился шаманом, редко кому удавалось избежать своей судьбы. Как только он проходил посвящение и становился шаманом, шаманская болезнь прекращалась. Получается, что свои знания он как бы наследовал, а духи отныне соучаствовали во всей его дальнейшей жизни.
Как происходило само посвящение?
Акт посвящения был наиболее выражен у якутов и эвенков. Шамана отводили в лес, где была какая-то избушка, и оставляли там на несколько дней. Духи начинали приводить его в околосмертное состояние, когда сокровенное становилось очевидным. Они проводили его через смертные муки. Они снимали с костей плоть, разъединяли все части скелета. Причем шаман испытывал страдание, выступала кровь, он буквально умирал, суставы кровоточили и т. д. Ему пересчитывали кости: у обычного шамана должна была оказаться одна лишняя кость, у более сильного шамана – две, у еще более сильного – три и т. д. Это показатель силы шамана.
Его облекали новой плотью, наделяли новой душой, уже шаманской. И само уже это наделение приводило шамана к тому, что он становился другой личностью.
Основа потенциальная у шамана была, а остальное наслаивалось, нередко при участии более опытного шамана.
Михаил Федорович, ведь это все звучит на грани здравого смысла. Как Вы вообще могли об этом говорить в рамках научного подхода?
С одной стороны, надо быть как-то настроенным на восприятие всей жизни народа, в данном случае Сибири, включая этнографию, историю, мифы. А без этого – ну что такое археолог, для чего бесконечно описывать черепки, классифицировать? Надо быть настроенным на понимание существа какого-то – чем живут старики в глухой деревне, даже природу понять – то, что для нас нелепость, для них почему-то нормально. А почему? Представляете, чтобы понять людей, надо иногда там, в тайге, уйти в леса, остаться одному. Вне этого понять невозможно. Для меня важным было узнать что-то большее, чем дают черепки. Поэтому раскопки не были для меня главным. То, что я накапывал в экспедиции, конечно, заставляло что-то пересматривать, но на систему воззрений это не влияло. А влияло все вкупе. А когда я приезжал сюда после экспедиций, здесь была совершенно другая атмосфера, и мне было очень трудно адаптироваться к академической жизни, всякий раз это долгая адаптация.
А другая сторона – в институте меня, конечно, чудаком считали, и многие вещи только сейчас печатать начинают. Но мне повезло: мой научный руководитель Валерий Николаевич Чернецов был необычным человеком, его считали шаманом, и довольно сильным. Я был комсомольцем, когда попал к нему в экспедицию в первый раз, и еще не был связан с археологией. Он погружал нас в какую-то другую реальность. Все его рассказы, что с ним было, случалось, – это совершенно не вписывалось в логику миропредставления, которая у меня тогда была. Помню (и это не раз бывало), мы сидели у костра и вдруг смотрим – перед нами Валерий Николаевич неожиданно возникает. Достает что-то из карманов, в огонь бросает, потом начинает петь на мансийском языке, совершая при этом самые невероятные «шаманские» движения. Он годами жил в тайге.
То есть как? Вы же говорили, что Чернецов был вашим научным руководителем.
Он интеллигент в каком-то поколении, сын московского архитектора. Ушел из дома в юности. Бродил, ходил, жил в тайге, сам строил зимовье. Он вошел в эту атмосферу, это пространство, эту культуру настолько, что его своим считали. Стал тем, кем стал. А стал он крупнейшим западносибирским этнологом и… шаманом. Он был прекраснейший человек. Конечно, его тоже чудаком считали, но к нему и в Москве, в Институте археологии, очень хорошо относились. Даже позже академик Борис Александрович Рыбаков говорил, что Чернецов был единственный человек в институте, к которому вообще все хорошо относились. Он как-то мог вписываться в любую среду. И в тайге его необыкновенно уважали, у него даже имя было такое мансийское – Лозум-Хум. Это очень почетно, сибирским богатырям давали такие почетные имена. Хум – «человек», Лозум (или Лозьва) – «река».
Чему же он учил – науке или традициям?
Надо полагать, Валерий Николаевич передавал знания каким-то особым образом. Понимаете, к нему приходил обычный собеседник, и он говорил о чем угодно, не относящемся совершенно ни к какой науке. Но человек от него всегда уходил помудревший. То есть выплывал какой-то пустячок, и Чернецов вокруг этого пустяка развертывал целый комплекс всевозможных рассуждений. Любой пустячок – это шаг к сокровенному и главному, и может, из этого пустячка ты сам вообще ничего не взял бы… Он был мастер модели, кроме всего прочего. То есть из какой-то частицы он моделировал Вселенную.
А на вид он был довольно маленький человек, в экспедиции – босиком, красной тряпкой голова завязана, брюки латаны-перелатаны. Помню, нам нужно было на лодке через водные верховья Тагила переправиться к наскальным изображениям на другой стороне речки. А там стремнины, камни торчат отовсюду. И лодочка неустойчивая. Несколько раз я пытался на ней переплавиться – ничего не получалось, хотя молодой, крепкий был, – сразу начинало бить, крутить вниз по течению, на камни. Где-то лодку ловили, вытягивали и тащили. Ну совершенно невозможно. Валерий Николаевич после этого сам ведет нас к лодке, усаживает, берет в руки шест и закуривает. И как гондольер, не глядя вперед, стоя так полуоборотом вроде бы, перевозит нас. Это я до сих пор помню. Как ему это удавалось? Какие силы природы ему помогали?
И хотя печатных работ после него, к сожалению, мало осталось, меня не оставляет ощущение, что главное было не в тех публикациях, а в рассказах у костра, спонтанных выступлениях, в вопросах. Вообще многое уходит – я имею в виду не только Чернецова, – теряется все это. И по большей части уже ушло.