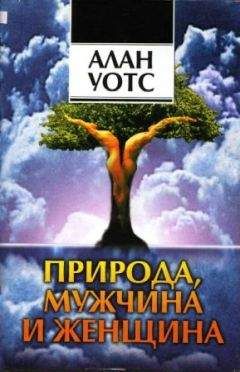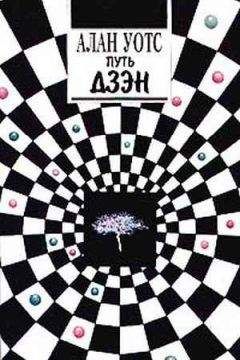Обычно мы говорим о самосознании как об осознании субъектом самого себя. Мы бы путались намного меньше, если бы сказали, что самосознание — это осознание самого себя «субъектом-объектом». Ведь знающий есть знание подобно тому, как две на первый взгляд различные стороны ленты Мёбиуса есть одно и то же. Развивая эту аналогию, мы можем сказать, что сознательное переживание является полем, которое, подобно ленте Мёбиуса, замыкается само на себя.
Таким образом, не я осознаю себя наряду с другими вещами, а все поле «я-осознаю-нечто» осознает самое себя.
Хотя проблема осознания настоящего будет более подробно рассмотрена ниже, здесь очень важно по крайней мере понять ее принцип, а значит, увидеть иллюзию попыток получить что-то от жизни в смысле хорошего, счастливого или приятного психологического состояния. Ведь смысл с точки зрения нашего эгоцентрического мышления не в том, что будет лучше, если мы вернемся к изначальному единству с природой. Смысл в том, что мы никогда не теряли этого единства, как бы живо мы ни воображали себе обратное. По аналогии, невозможно переживать будущее, не переживая настоящего. Однако попытки постичь это снова оказываются сродни попыткам почувствовать будущее. Логик может возразить, что это тавтология, из которой невозможно сделать вывод, — и будет прав. Мы ведь не спрашиваем у каждого переживания: «Ну и что дальше?», словно его единственная важность в том, к чему оно нас ведет. С таким же успехом мы должны постоянно останавливать танцора и спрашивать: «А вот сейчас куда ты собираешься перейти, и в чем конкретный смысл твоих движений?»
Естественно, в нашей жизни всегда есть место для комментариев, описаний природы и предсказания будущего течения событий. Однако мы должны знать, о чем мы говорим, — а для этого внутри мы должны опираться на тишину и созерцание, не задавая вопросов и не пытаясь переходить к выводам. Что ж, может, нам пора вернуться к ручью с галькой на дне и резвящимися среди солнечной ряби мальками — и понаблюдать?
Часть I. ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА
Глава 1. УРБАНИЗМ И ЯЗЫЧЕСТВО
Когда христиане впервые провели различие между собой и язычниками, слово «язычник» (pagan) означало «сельский житель». Первыми центрами христианства в Римской империи были великие города — Антиоф, Коринф, Эфесий, Александрия и сам Рим. Позже в течение столетий, когда христианство рождалось и распространялось по всей Империи, богатство римского купечества привлекало население в города, так что еще в 37 году до н. э. правительство императора Августа было обеспокоено упадком сельского хозяйства. Стихотворение Виргилия под названием «Георгики», написанное по указу имперских сановников, должно было восхвалять деревенскую жизнь:
O fortunatos nimium,
Sua si bona norint
Agricolas!
Блажен, воистину блажен
Знающий о том, как щедро земля
Воздает земледельцам!
Развитие христианства в городах в те времена, когда, как и сегодня, большие города были центрами экономического и культурного притяжения, сильно повлияло на основные черты этой религии. Поэтому христианство в целом имеет определенно урбанистический характер, и это верно не только в отношении римского католицизма, но и в отношении протестантизма, появившегося в крупных городах Западной Европы. Основным препятствием к распространению христианства на Западе в течение пятнадцати столетий было сопротивление крестьян, живших на лоне природы.
Возможно, лучше всего можно описать эту сторону христианства, ссылаясь на личные впечатления, которые, как мне кажется, не уникальны. Дело в том, что, сколько я себя помню, я чувствовал себя христианином только в помещении. Стоило мне выйти на улицу, стать под небом, как я чувствовал себя в полном отрыве от всего, что происходит к церкви, — в отрыве от богослужения и теологии. Это не значит, что я не любил находиться в церкви. Напротив, я провел большую часть своего отрочества на территории одного из самых прославленных соборов Европы и до сих пор замираю, как только припоминаю его великолепие. Романская и готическая архитектура, грегорианское пение, средневековое стекло и манускрипты, запах ладана и просто старого камня, ритуал мессы — все это завораживает меня, как ревностного католического романтика. Равно как я не могу о себе сказать, что равнодушен к глубине и великолепию христианской философии и теологии или что с ранних лет мне не привили горько-сладостную христианскую совесть. Однако все это находится в герметически закрытой камере или, лучше сказать, в святилище, куда свет голубого неба проникает лишь сквозь разноцветные рисунки мозаичного стекла.
Часто говорится, что эстетическая атмосфера христианства не отражает ее сути, потому что христианская жизнь не в том, что человек чувствует, а в том, что он выбирает вопреки своим чувствам. Мистик-созерцатель сказал бы, что знать Бога — совсем не то, что чувствовать его; знать Бога можно только любовью и волей в «облаке неведения», в темной ночи души, где чувства и ощущения находят лишь полное отсутствие Бога. Поэтому по мнению мистика тот, кто знает христианство с точки зрения эстетики, не знает его вообще.
Молитвенники в позолоте, шпили,
Колонны, ширмы, сумрачные хоры —
Все это я любил и, на коленях стоя,
Благодарил судьбу за щедрость.
Я наблюдал, как утром солнца свет
Проходит сквозь викторианское стекло,
И в пестром воздухе, молясь,
Я видел Бога… Время шло.
И вот теперь я погружен в туман
И знаю: Бога нет.[9]
Однако отрицание мистиком чувств, каким бы мужественным и благородным оно ни казалось, это всего лишь еще одно проявление той же закономерности. Известный нам христианский мир не полон, в нем нет места чувствам и символам, олицетворяющим женщину. Чувства как путь познания вводят в заблуждение тех, кто не развил и не дисциплинировал их, кто не научился их использовать. Более того, если чувства недооцениваются или вообще отвергаются, их проявления характеризуют преобладающие умонастроения.
Таким образом, мне кажется, что имеется глубокое и довольно странное несоответствие между атмосферой христианства и естественным миром. Кажется невозможным согласовать Бога-Отца, Иисуса Христа, ангелов и святых с реальной вселенной, в которой я живу. Глядя на деревья и камни, на небо, облака и звезды, на море и на обнаженное человеческое тело, я нахожу себя в мире, в который не вписывается эта религия. Фактически, это подтверждается самим христианством, которое говорит: «Царство мое не от мира сего» (Ин. 18, 36). Но если Бог сотворил этот мир, почему мы чувствуем различие между Богом в церкви и миром под открытым небом? Никто никогда не спутает пейзаж Сэссю с полотном Констебля и современный шлягер с арией из оратории Генделя. Точно так же я не могу связать автора христианской религии с творцом физической вселенной. Это суждение ничего не говорит об относительных достоинствах этих двух произведений. Оно говорит лишь о том, что христианская церковь и мир созданы разными мастерами и поэтому плохо сочетаются.
Конечно, люди всегда догадывались об этом и пытались это объяснять. Считается, что красота христианства сверхъестественна, тогда как красота и стиль физического мира естественны. Самое близкое к сверхъестественной красоте в физическом мире—это красота человека и, в частности, человеческого ума. Для христианства характерна городская, а не сельская атмосфера, потому что в городе мы окружены порождениями ума. Более того, утверждается, что, хотя все существа под небом являются творениями Бога, человек и его произведения всегда более возвышенны, чем все остальное. В человеке в большей мере отразилась природа Бога, чем в солнце, луне и звездах, и поэтому то, что мы иногда называем искусственным, находится ближе к сверхъестественному, чем естественное.
Дальше в объяснении говорится, что легко любить красивые поверхности природы до тех пор, пока мы не столкнулись с ее бессердечностью, с жестокой борьбой за жизнь, лежащей в ее основе. Моральные и этические идеалы, которые облагораживают природу, впервые возникли у человека, — и это является еще одним аргументом в пользу того, что нигде в природе Бог не отразился так полно, как в человеке. Верно, что иногда мы ищем убежище от шумных улиц и городской суеты на лоне природы, но лишь потому, что худшее — это испорченное лучшее. Зло человека намного страшнее зла паука или акулы, но только потом, у что добро человека неизмеримо превосходит добро весеннего пейзажа. Достаточно вообразить себе, как холодно и одиноко чувствует себя человек, постоянно живущий среди возвышенных красот природы, с какой готовностью он променяет все это природное великолепие на одно человеческое лицо.