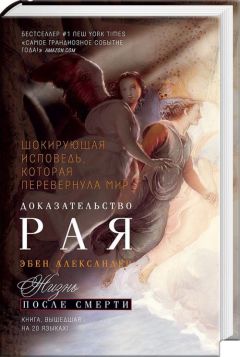— Они понимают, чем это вызвано? — спросил Эбен.
— Ну, они упомянули о грамотрицательной бактерии и менингите.
— У меня на носу два экзамена, так что я предупрежу преподавателей эсэмэсками, — сказал Эбен.
Потом он признался мне, что сначала не очень поверил, что мое состояние настолько серьезно, как сказала Филлис, поскольку они с Холли вечно делали из мухи слона, к тому же я никогда не болел. Но когда через час ему позвонил Майкл Салливан, он понял, что нужно срочно ехать к нам.
Эбен мчался в сторону Вирджинии под холодным ливнем. Филлис отправилась из Бостона в шесть вечера, и, когда Эбен пересек мост над рекой Потомак и въехал в Вирджинию, она остановилась в Ричмонде, взяла машину напрокат и тоже выехала на трассу 60.
Еще не добравшись до Линчберга, Эбен связался с Холли.
— Как там Бонд?
— Уже спит.
— Тогда я прямо в больницу.
— Тыне хочешь сначала заехать домой? — спросила Холли.
— Нет, хочу увидеть папу.
Эбен подъехал к больнице в четверть двенадцатого — подъездная дорожка уже покрылась тонким льдом, и когда он вошел в ярко освещенную приемную, то увидел только ночную дежурную сестру. Она проводила его к моей палате.
К этому времени все, кто приезжал проведать меня, уже уехали. Единственными звуками в большой палате с приглушенным светом были тихие попискивания и шипение аппаратуры, поддерживающей жизнедеятельность моего организма.
Увидев меня из дверей, Эбен замер. За двадцать лет я не страдал ничем серьезнее легкой простуды. Сейчас же он видел перед собой только тело. На высокой кровати лежало мое физическое тело, но папы, которого он знал, не было.
А точнее сказать, он пребывал где-то в другом месте.
Глава 5. Потусторонний мир
Темнота, но зримая темнота — будто ты погрузился в грязь, но видишь сквозь нее. Да, пожалуй, эту темноту лучше сравнить с густой желеобразной грязью. Прозрачной, но мутной, расплывчатой, вызывающей удушье и клаустрофобию.
Сознание, но без памяти и без ощущения самого себя — как сон, когда понимаешь, что происходит вокруг тебя, но не знаешь, кто ты.
И еще звук: низкий ритмичный стук, отдаленный, но достаточно сильный, когда чувствуешь каждый удар. Сердцебиение? Да, похоже, но звук более глухой, более механический — напоминает стук металла о металл, будто где-то далеко какой-то исполин, подземный кузнец бьет молотом по наковальне: удары такие мощные, что вызывают вибрацию земли, грязи или какого-то непонятного вещества, в котором я пребывал.
У меня не было тела — во всяком случае, я его не ощущал. Я просто… находился там, в этой пульсирующей и пронизываемой ритмичными ударами темноте. В то время я мог бы ее назвать предначальной тьмой. Но тогда я не знал этих слов. Собственно, я вообще не знал слов. Слова, употребленные здесь, появились намного позднее, когда, вернувшись в этот мир, я записывал свои воспоминания. Язык, эмоции, способность рассуждать — все это было утрачено, будто меня отбросило далеко назад, к начальной точке зарождения жизни, когда уже появилась примитивная бактерия, неведомым образом захватившая мой мозг и парализовавшая его работу.
Сколько я находился в этом мире? Не имею представления. Практически невозможно описать ощущение, которое испытываешь, попав в место, где отсутствует чувство времени. Когда потом я туда попадал, то понимал, что я (каким бы ни было это «я») всегда был и буду там.
Я не возражал против этого. Да и почему бы я стал возражать, если это существование было единственным, какое я знал? Не помня ничего лучшего, я не очень интересовался, где именно пребывал. Припоминаю, я раздумывал, выживу я или нет, но безразличие к исходу только усиливало ощущение собственной неуязвимости. Я не ведал о принципах мира, в котором находился, но не спешил узнать их. Какая разница?
Не могу сказать, когда точно это началось, но в какой-то момент я стал сознавать вокруг себя какие-то предметы. Они походили одновременно на корни растений и на кровеносные сосуды в невероятно громадной грязной утробе. Светясь мутным красным светом, они тянулись откуда-то далеко сверху куда-то далеко вниз. Теперь я могу сравнить это с тем, как если бы крот или дождевой червь, находясь глубоко под землей, каким-то образом мог видеть вокруг себя переплетенные корни трав и деревьев.
Вот почему, вспоминая это место позднее, я решил назвать его Среда обитания, какой ее видит Червяк (или, коротко, Страна Червяка). Довольно долго я предполагал, что образ этого места мог быть навеян каким-то воспоминанием о состоянии моего мозга, только что подвергшегося атаке опасной и агрессивной бактерии.
Но чем больше я думал над этим объяснением (напоминаю, что это было гораздо позднее), тем меньше видел в нем смысл. Потому что — как же трудно все это описать, если вы сами не бывали в этом месте! — когда я там находился, мое сознание не было затуманено или искажено. Оно было просто ограничено. Тамя не был человеком. Но не был и животным. Я был существом более ранним и примитивным, чем животное или человек. Я был просто одинокой искрой сознания в безвременном красно-коричневом пространстве.
Чем дольше я там оставался, тем мне становилось неуютнее. Сначала я так глубоко погрузился в эту зримую тьму, что не ощущал разницы между мной и этой одновременно и мерзкой и знакомой материей, окружающей меня. Но постепенно ощущение глубокого, безвременного и беспредельного погружения уступило место новому чувству: что на самом деле я вовсе не являюсь частью этого подземного мира, а просто каким-то образом попал в него.
Из этой мерзости всплывали, как пузыри, морды страшных животных, издавали вой и визг, потом пропадали. Я слышал прерывистое глухое рычание. Иногда это рычание переходило в смутные ритмичные напевы, одновременно пугающие и странно знакомые — будто в какой-то момент я сам знал и напевал их.
Поскольку я не помнил своего предыдущего существования, мое пребывание в этой стране казалось бесконечным. Сколько времени я там провел? Месяцы? Годы? Вечность? Так или иначе, наконец, наступил момент, когда мою прежнюю равнодушную беззаботность целиком смел леденящий ужас. Чем отчетливее я чувствовал себя собой — как нечто обособленное от окружающих меня холода, сырости и мрака, — тем отвратительнее и страшнее казались мне звериные морды, всплывающие из этого мрака. Приглушенный расстоянием равномерный стук становился все резче и громче, напоминая трудовой ритм некоей армии подземных троллей-рабочих, выполняющих бесконечную, невыносимо монотонную работу. Движение вокруг меня стало более заметным и ощутимым, как если бы змеи или другие червеобразные создания плотной группой пробирались мимо, иногда касаясь меня гладкой кожей или подобием ежовых колючек.
Затем я почувствовал зловоние, в котором смешались запахи испражнений, крови и рвоты. Иными словами, запах биологического происхождения, но мертвого, а не живого существа. По мере того как мое сознание все более обострялось, мной все больше овладевал страх, панический ужас. Я не знал, кто или что я, но это место было мне мерзко и чуждо. Необходимо было выбраться оттуда.
Но куда?
Не успел я задаться этим вопросом, как сверху из мрака появилось нечто новое: оно не было ни холодным, ни мертвым, ни темным, а являло собой полную противоположность всех этих качеств. Даже если бы я потратил на это весь остаток моих дней, я не смог бы воздать должное той сущности, что сейчас приближалась ко мне, и хотя бы отчасти описать, какой она была прекрасной.
Но я продолжаю свои попытки.
Филлис поставила машину на больничную парковку через два часа после Эбена, около часу ночи. Когда она поднялась ко мне, то увидела его, сидящего рядом с моей кроватью и сжимающего на коленях больничную подушку, чтобы не заснуть.
— Мама дома с Бондом, — сказал сын, и в его усталом и напряженном голосе прозвучала нотка радости от встречи с теткой.
Филлис посоветовала Эбену ехать домой, потому что если после такой долгой поездки он просидит здесь всю ночь, то завтра утром никому не сможет помочь, в том числе и папе. Она предупредила по телефону Холли и Джеан, что Эбен скоро приедет, и пообещала подежурить около меня до утра.
— Поезжай домой, — сказала она, выключив телефон. — Ты нужен маме, тете и брату. Не волнуйся, утром, когда вернешься, мы с твоим папой будем тут, никуда не денемся.
Эбен посмотрел на меня: на вставленную в правую ноздрю прозрачную пластиковую трубку, спускающуюся в трахею, на уже потрескавшиеся губы, опущенные веки и ввалившиеся щеки.
Филлис поняла, о чем он думал.
— Иди домой, Эбен, и постарайся не тревожиться. Твой папа все еще с нами. Я не собираюсь его отпускать.
Она подошла к кровати, взяла мою руку и стала ее поглаживать.
Так Филлис и просидела до утра, не выпуская моей руки и поддерживая между нами связь, которую считала необходимой для того, чтобы помочь мне все преодолеть. В палате лишь тихо жужжала аппаратура, да через каждый час заходила дежурная медсестра измерить мне температуру.