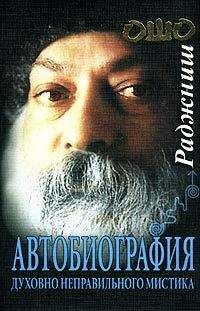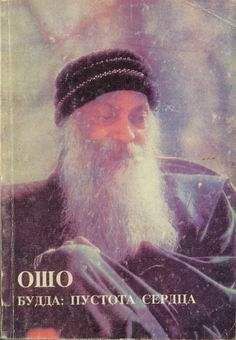А дома я не хотел ночевать по двум причинам. Прежде всего, дома сладкого не давали. Там было много детей, и если одного угощали конфетой, все остальные тут же начинали клянчить. А вера это запрещала, ты попросту не имел права о чем-то просить. Но я без сладкого не мог заснуть.
Во-вторых, я понимал, что бабушка любит одиночество, а в нашем доме трудно было побыть в тишине, там народу было как на базаре. И я думал: «В этой толпе моего отсутствия никто и не заметит». Это правда, никто по мне не скучал. Родители знали, что я ночую у Нани, и не волновались.
В общем, даже после первых семи лет я оставался вне сферы влияния родителей. Так уж получилось, что я с самого детства был предоставлен себе. Как бы я себя ни вел, плохо или хорошо, только я решал, что мне делать. И это постепенно стало образом моей жизни, это всего касалось — например, одежды.
В нашем городке я был единственным немусульманином, который одевался как мусульманин. Отец говорил: «Делай что угодно, только не это! Все на нас смотрят! Подумай о своих братьях и сестрах! Что это тебе в голову взбрело?»
В нашем городе мусульмане носили не индийские дхоти, а особые наряды, похожие на пижамы, — шалвары. Их носили пуштуны в Афганистане и Пакистане — далеких странах за Гималаями. Пусть они похожи на пижамы, но они очень красивые. Эти наряды не так скромно выглядят, как обычная пижама, на них много изящных складок. Из настоящих шалвар можно скроить добрый десяток пижам, столько на них складок. И эти складки, когда они аккуратно подобраны, придают одежде редкую красоту. Кроме того, я носил не индийскую, а длинную пуштунскую курточку. Индийские куртки коротенькие и рукава у них тесные, а у пуштунских просторные рукава, сами куртки тоже длинные, ниже колен. Наконец, я носил турецкую феску.
Отец мне говорил: «Ты все равно проходишь по лавке зажмурившись. Почему бы тогда не ходить через черный ход?» Он говорил: «Пользуйся черным ходом, избавь меня от необходимости отвечать на вопросы любопытных покупателей. Они вечно интересуются, кто этот мусульманин, что бродит туда-сюда с закрытыми глазами. И откуда у тебя эти бредовые идеи? У нас солидное заведение, тут полно готовой одежды, ты мог бы выбрать лучшее. Зачем ты носишь исламский наряд?»
В Индии считают, что нет ничего хуже исламского наряда. Я говорил отцу: «Именно поэтому. Все думают, что нет ничего хуже исламского стиля. Но я всем доказываю, что эта одежда, наоборот, самая лучшая. Посуди сам — где бы я ни появился, все сразу на меня внимание обращают. И на улицах, и в школе — все замечают только меня».
Знаете, сколько пользы приносил мне этот наряд? Он действительно был роскошный, особенно феска — такая вытянутая шапочка и кисточка сбоку. Фески у нас носили самые богатые турки. Я был еще маленький, но этот наряд приносил мне много пользы.
Я мог, например, смело зайти в городскую управу. Солдат у ворот окидывал меня взглядом и говорил: «Проходите». Он ведь видел, как я одет... Иначе меня, малыша, никуда бы не пустили, но, глядя на мой наряд, солдат думал: «Это, наверное, шейх или сынок какой-то важной шишки». При виде моей одежды даже комиссар[2] вскакивал с кресла и говорил: «Шейх-джи, бетье» — «Присаживайтесь, достопочтенный шейх».
Я отцу говорил: «Этот наряд мне много пользы приносит. Когда-нибудь я заявлюсь к министру, и он тоже подумает, что я шейх, отпрыск богатого араба или перса. И ты после этого хочешь, чтобы я носил дхоти и куртку? Да кто тогда обратит на меня внимание?»
Я ходил в этом наряде вплоть до тех пор, пока не поступил в университет. Домашние изо всех сил пытались меня переубедить, но, чем больше они наседали... Я им просто говорил: «Если перестанете меня уговаривать, я, может быть, и сам откажусь от этой одежды. Но если будете продолжать, я назло вам буду ее носить».
Однажды отец сложил мои шалвары, куртки и все три фески в узелок, отнес в подвал и спрятал где-то среди кучи бесполезного хлама. Проснувшись, я не нашел одежду и тогда просто вышел голышом. Зажмурился и пошел себе через лавку. Иду и слышу, как отец кричит: «Стой! Вернись! Оденься, бесстыдник!»
Я сказал ему: «Тогда верни мне одежду».
Он ответил: «Не думал я, что ты на такое решишься. Я надеялся, что ты поищешь одежду, а я ее хорошо спрятал. И тогда тебе придется надеть обычную одежду, как у всех. Но я не думал, что ты решишься ходить голым».
«Я предпочитаю не говорить, а действовать, — сказал я. — В пустую болтовню я не верю».
Я даже не спрашивал никого, где моя одежда. Зачем? Можно ходить и голым, тебя тоже сразу замечают. Отец сказал: «Ладно, забирай свою одежду, ты победил. Только голым не ходи, это еще хуже. Все начнут говорить, что продавец сукна не может одеть своего сына. О тебе и так дурная слава ходит, ты хоть нас не позорь. Все скажут: „Глядите, какой бедный ребенок!“ Все вокруг подумают, что мы не можем купить тебе одежду».
Так все и продолжалось. Я не упускал случая отточить свою смекалку. Я оттачивал сообразительность и характер при любой возможности. Теперь, представляя по этим деталям общую картину, вы можете многое понять... Окружающие просто не в состоянии были понять, что я за человек — какой-то сумасбродный чудак, — но я делал все это умышленно и целенаправленно.
Я говорил отцу: «Нет». Это было первое, что я сказал у входа в начальную школу. Я сказал отцу: «Нет, не хочу туда. Это не школа, а тюрьма». Сами ворота, цвет здания... Это так странно, но в Индии тюрьмы и школы одинаковы: здания из красного кирпича, окрашенные в один и тот же цвет. Глянешь на здание и сразу не разберешь, школа это или тюрьма. Если это проделки какого-то шутника, то здорово у него получилось.
Я сказал отцу: «Ты только посмотри! И это называется школа? Глянь на эти ворота! Неужели ты хочешь запереть меня тут на целых четыре года?»
Отец сказал: «Этого я и боялся...» Мы стояли у ворот, не во дворе, а снаружи, потому что я упирался и не хотел идти внутрь. «Я всегда боялся, — продолжил отец, — что дед и, главное, эта женщина окончательно тебя испортят».
«И правильно боялся, — ответил я. — Но дело уже сделано и теперь ничего не исправишь. Прошу тебя, пошли домой».
«Что? — воскликнул он. — Ты должен учиться!»
«Посмотри, как все начинается, — сказал я. — Меня уже лишают права выбора. Разве это учеба? Если ты за меня все решил, не нужно меня спрашивать. Возьми меня за руку и затащи во двор. Я, во всяком случае, буду знать, что попал в это кошмарное место не по своей воле. Сделай одолжение, заставь меня силой».
Отец, конечно, очень расстроился и действительно затащил меня во двор. Он был человек простой, но все равно понимал, что это неправильно. Он мне сказал: «Я твой отец, но мне все равно не хочется тебя заставлять».
«Не нужно чувствовать себя виноватым, — сказал я. — Ты поступил правильно. По доброй воле я сюда никогда не пришел бы, меня все равно понадобилось бы тащить силком. Мой выбор простой: не хочу. Но ты можешь навязать мне свое решение, потому что кормишь меня и одеваешь. Естественно, у тебя более выгодное положение».
Когда мы прошли сквозь школьные ворота, у меня началась новая жизнь. Я долгие годы жил как дикий зверек. Я даже не могу сказать «как дикарь», потому что дикарей сейчас нет.
Дикие люди появляются лишь время от времени. Я дикарь. Будда, Заратустра, Иисус — они тоже были дикими людьми. Но обо мне можно сказать, что в первые годы жизни я жил как дикий зверек.
Я никогда не приходил в школу по своей воле. И я рад, что меня туда силком тащили, против моего желания. Та школа действительно была кошмарной. По существу, все они ужасны. Нет ничего плохого в том, чтобы давать детям возможность учиться, но давать им образование — это совсем другое. Любое образование отвратительно.
Как вы думаете, кого я увидел в школе первым? Конечно, своего будущего учителя. За свою жизнь я повидал много красивых и уродливых людей, но этот тип был неподражаем! Он был преподавателем, он должен был стать моим учителем, но мне страшно было даже глядеть на него. Судя по всему, Господь очень торопился, когда лепил его лицо. Может, Богу приспичило и он помчался в туалет, так и не закончив дело, — но какой же урод в итоге получился! У него был крючковатый нос и только один глаз. Хватило бы и одного глаза, но этот нос делал лицо по-настоящему безобразным. А еще он был просто огромным. Он весил добрые полторы сотни кило, никак не меньше.
И это был мой первый учитель — точнее, преподаватель. Признаться, увидев этого человека, я бы и сейчас задрожал от страха. Хотя он больше коня напоминал, чем человека.
Мой первый учитель... Я не знал его настоящего имени, да и никто в школе не знал — я имею в виду, конечно, детей. Все называли его просто «учитель Кантар». Кантар переводится как «одноглазый», но это еще и ругательство. Прямой перевод невозможен, слишком много нюансов. В общем, в лицо все обращались к нему «учитель Кантар», а за глаза звали просто Кантаром, «одноглазым».