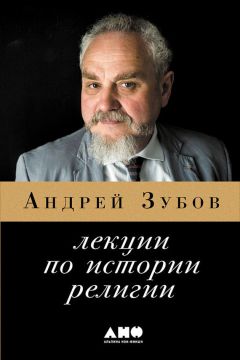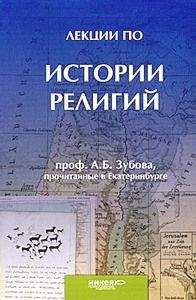Жертвы умершим также известны с эпохи неолита. Но тогда они были немногочисленны. Судя по заупокойному инвентарю, и большинстве неолитических сообществ не существовало представлений о переходе «душ» вещей в иной мир, для того чтобы умерший ими пользовался. Как и в палеолите, сравнительно немногочисленные предметы, помещавшиеся с умершим, имели символико-религиозное, а не утилитарное назначение. Посмертное существование представлялось в таких сообществах отнюдь не аналогом земного и земные вещи там вовсе не считались нужными. Напротив, в сообщестrnix, перешедших к демонистическим верованиям, как мы помним, тот мир подставляется точным подобием мира этого. Потому умершему там необходимы вещи и пища этого мира. По той же причине, если умерший в этой жизни прибегал к услугам рабов и слуг, имел жен и наложниц, их могут отправить вослед умершему господину, принеся в жертву, умертвив на могиле и похоронив рядом с хозяином. Так поступали славяне и германцы до христианизации, таковы и обычаи многих африканских племен.
В 49-м Давидовом псалме, именуемом «Псалмом Асафа» БогТворец поучает людей: «Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя… Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» [Пс. 49, 7-15]. Иногда полагают эту высокую мысль особым духовным достижением израильского народа. Но за тысячу лет до царя Давида другой венценосец древности, египетский царь Гераклеополя Хети Небкаура (имя восстанавливается предположительно) поучал своего сына, царевича Мерикара: «Утверди свое пребывание в жилище Запада (то есть в инобытии) творением правды и справедливости, ибо на этом утверждаются сердца человеческие. Приятней ‹Богу› хлебное приношение праведного, чем бык беззаконника» [Мерикара, 128-129] [304].
Для религии теистической единственной ценностью в человеке, угодной Творцу является его «праведность», то есть соответствие той абсолютной правде, которой и на которой построен мир и которая является потому важнейшим качеством Бот как Творца. Совершенствуя свою праведность, отказываясь в свободном выборе от зла, человек восходит к Творцу. Жертва, приносимая человеком как сродство Богообщения, имеет в этом контексте только вспомогательное, символическое значение, хотя и весьма важное. «Мои все звери в лесу и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах и животные на полях предо Мною» – говорит Творец в том же 49-м псалме. Богу не нужны обильные человеческие подношения, ибо все, что есть, и так создано Им и всегда пребывает «пред Ним». Богу нужно только свободное человеческое произволение добра, правды. Это – единственный ценный дар, но ценный опять же не для Бога, Который есть полнота и без человеческой праведности, но для нас, только праведностью приближающихся к Праведному и Благому Творцу.
Когда праведность подменяется обильными жертвами, мы всегда можем констатировать угасание теистической веры, когда же не довольствуясь «тысячами быков и овнов» люди начинают приносить в жертву людей, то перед нами не просто помрачение, но полное забвение смысла религиозного усилия. Заставляя страдать и умирать другого человека, жертвователь не улучшает, но, напротив, уничтожает свою праведность.
Однако для духов, существ, не обладающих полнотой, столь же тварных и частичных, как и сам человек, жертва имеет совсем иной смысл. Она их действительно «кормит», то есть добавляет им силу, в которой они испытывают, как все частичное, недостаток. Чем энергетически мощней жертва, тем лучше этим тварным существам. Свободное, богоподобное человеческое существо бесконечно «мощнее» быков и козлов и потому для духов такая жертва наиболее желанна, а для жертвователя – наиболее эффективна. Другое дело, что, подчиняя такому жертвователю «голодных духов», человеческая жертва бесконечно отдаляет его от Творца.
Если историк религии исходит из элементарной схемы прогрессивного развития религиозных представлений и практик от «дикости» к «цивилизованности», то и человеческие жертвоприношения он считает нормой в древнейших обществах, а в современных цивилизованных полагает их всегда пережитком. Между тем религиоведу следует при оценке человеческих жертвоприношений использовать не личное нравственное чувство, всегда восстающее против такой жестокости, но богословскую логику. Теистическим религиям такие жертвоприношения не просто не нужны, но и прямо противопоказаны. Зато для религий демонистических, где объектами поклонения являются существа тварные и частичные, они вполне естественны. Поэтому практика человеческих жертвоприношений и ритуального каннибализма столь часто встречается у неписьменных народов, вынесших в своей религиозной жизни Бога «за скобки».
Но также точно, как колдовство и магия, то есть общение с демонами, не исчезает и в теистических обществах, хотя со стороны ортодоксии с теми, кто практикует их, может вестись непримиримая война, также точно не исчезают в «письменных культурах» и страшные принципы кормления духов богоподобным человеческим естеством. Изредка подобные практики становятся и у государственных народов средоточием всей религиозной жизни – передневосточный Ханаан, Карфаген, центрально-американские сообщества перед испанским завоеванием. Но конец таких государств, как правило, печален, гекатомбы человеческих жертвоприношений не отдаляют, но только приближают их полное уничтожение.
Чаще же человеческие жертвоприношения остаются эпизодическими уклонениями, вызванными временными помрачениями массового религиозного сознания или особыми тайными культами на грани извращенного теизма и магии. В религиозных системах менее организованных, подобно индуизму или китайскому религиозному комплексу, они появляются достаточно часто в различных неортодоксальных сектах. Но даже в обществах, исповедующих такие строгие системы, как христианство или ислам, мы сможем встретить эти практики.
Например, у неписьменных народов широко распространен обычай приносить человеческие жертвы духам при закладке зданий. Некоторые исследователи, впрочем не очень убедительно, усматривают их еще в передневосточном неолите [305]. Но у современных народов Африки, Азии и Океании они имеются, безусловно. В Африке, в Галаме, перед главными воротами нового укрепленного поселения зарывали обыкновенно живыми мальчика и девочку, чтобы сделать укрепление неприступным. В Великом Бассаме и Яррибе такие жертвы были употребительны при закладке дома или основании деревни. В Полинезии Эллис наблюдал их при закладке храма Мавы. Они практиковались на Борнео миланаусскими даяками и на Руси и Балканах славянскими князьями-язычниками при закладке детинцев. Изредка так поступают и раджи Пенджаба, и хинаянские короли Бирмы (закладка стен Тавоя в 1780 году). В 1463 году в Ногате (селение в Германии) крестьяне в основание постоянно размываемой плотины закопали пьяного нищего. В Тюрингии, чтобы сделать замок Либенштейн неприступным, купили у матери ребенка и заложили в стену. Ребенку оставили еду и игрушки. Когда его замуровывали, он кричал: «Мама, я еще вижу тебя! Мама, я еще вижу тебя немножко! Мама, теперь мне больше тебя не видно» [306]. При реставрации Изборской крепости в одном из столпов звонницы Колокольной башни был найден замурованный в кладку человеческий скелет [307] – фактическое свидетельство древних преданий.
Кто предположит, что русичи-изборяне или немцы могли в XV столетии думать, что такие жертвы угодны Богу? Принося их, они, безусловно, совершенно сознательно «кормили» демонов, а уж как это сопрягалось с их христианской совестью мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но тогда, в XV столетии, магические практики оставались только «тенью» религиозного устремления и немцев, и русских христиан. Подменить собой теизм им не удалось.